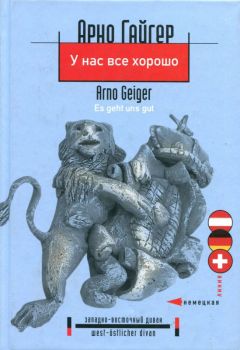Кара таскает за собой на поводке Сисси вдоль и поперек дорожек, и у Ингрид есть время подумать. Только, к сожалению, большого успеха в этом деле она не достигает, по крайней мере, в поисках, как улучшить текущую ситуацию. Слишком поздно она поняла, что это глупо — постоянно стремиться быть хорошей женой. Вместо того чтобы принимать поцелуи и розы как возмещение за свои мучения, лучше бы она вовремя воспитала из своего мужа помощника, чего теперь от него уже не добьешься. Теперь он все с себя свалит по принципу «раз дурак — всегда дурак». Ингрид ведь не спорит, что она и сама виновата, поскольку сама же первая ратовала за все удобства Петера и потом недостаточно энергично пресекала это. При этом (все это очень сложно) она не может припомнить ни одного примера, подтверждающего, что Петер способен извлечь уроки из их конфликтов. Видимо, еще его мать допустила какие-то ошибки в его воспитании.
И в то же время типично для нее самой: стоит Ингрид обнаружить в Петере больное место, как она тут же начинает ему сочувствовать. Ей вспоминается смерть госпожи Граубёк сегодня ночью (странно, что она порой умудряется забыть о ней) и то, что Петеру, когда умерла его мать, было всего пятнадцать, это было в войну; а ранняя игра в войну — это тоже негативно сказалось на нем, хотя сорокалетний мужчина и тогдашний мальчишка — далеко не одно и то же, и то время, когда они встретились и познакомились, чего только не было до того и после. Всем предыдущим и последующим, как правило, пренебрегают. Война легче, а еще легче военное детство, хотя никто не задерживается на войне и в детстве. По себе самой ей трудно судить, что было бы в ней другим, если бы не было войны. А по Петеру? Весь этот комплекс так прямиком и ведет к неудачам их брака, во всяком случае, если Ингрид хочется поудобнее устроиться в размышлениях об этом. Вот она видит Петера-подростка, как он держит свою раненую руку, как у него из носа текут сопли и как он сам говорит (а она ему верит): все против меня, одни в меня стреляют, другие бросают в беде, в первую очередь своя же семья.
На дорожке появляется темно-рыженькая белочка с белым пятном на груди, останавливается, поднимает голову и смотрит на Филиппа, ковыляющего ей навстречу. Белка, кажется, раздумывает, в какую сторону ей кинуться. Потом над парком, защищенным высокими стенами, гремит выстрел, и белка бросается в заросли живой изгороди. Филипп бежит к тому месту, где она скрылась, заглядывает в гущу зарослей, Сисси дает ему пинка, и он падает головой в кусты. Вот здорово! Гопля! Ингрид прикрикивает на Сисси. Филипп гонится за смеющейся сестрой с воплями, словно сто чертей. В потасовке его не остановит даже то, что она в два раза больше. Он вопит:
— Ах ты, зараза!
Но поскольку Филипп забывает про слезы, Ингрид тоже смеется. Она бы посоветовала Сисси приберечь такие повадки для ее будущих мужчин.
Вскоре после этого Ингрид берется тащить санки, поскольку Филипп уже запыхался. Ну вот, теперь он снова оживает.
— Ты самая лучшая мама, — хрипит он задыхаясь, по-прежнему беззаботный (это в нем хорошая черта — отсутствие злопамятства). С кончика носа свисает прозрачная капля, но, судя по всему, она ему не мешает. Ингрид все же вытирает ему нос, придерживая его за воротник. Она думает: единственный положительный результат из всего этого — дети.
Проблемы начались в годы второй половины учебы, когда занятия доводили Ингрид до грани нервного срыва, а от Петера она не получала никакой поддержки. Это началось еще в Хернальсе, до того, как Петер продал лицензии на свои игры. С продажей лицензий в конце 1960 года, во время беременности, когда Ингрид носила Сисси, она надеялась, начнется лучшая жизнь. Но вместо этого все пошло еще хуже. Ингрид лежала в больнице, Петер разъезжал по служебным делам, потому что фотографировал свои перекрестки. Она была на последнем издыхании, а снаружи, из одного заведения, где практиковались ранние возлияния, постоянно доносились по утрам шлягеры, Труде Херр[67], Вико Торриани[68], это ее изводило. Потом слишком короткие посещения Петера в отделении для рожениц и его уверения, что ему нечего особенно рассказывать о его новой работе.
Бесконечные одинокие прогулки на Вильгельминенберг с детской коляской, а позднее наводящее скуку кормление уточек с Сисси, когда Ингрид позарез нужно было заниматься. Однажды, когда они уже вчетвером ездили за покупками, в 1965-м или в начале 1966-го, Филиппу еще и года не было, Сисси вырвало, прямо на Филиппа в коляске и на покупки, которые Ингрид туда сложила. Филипп орал как резаный. А что Петер? Покраснел до корней волос и огляделся, не смотрит ли кто на них. На всякий случай отстал на два шага, чтобы никто не подумал, что он имеет какое-то отношение к этому безобразию. Если что-то шло вкривь и вкось, виновата всегда была Ингрид, потому что Петер ни во что не вмешивался. Отличная логика. Ингрид могла бы привести десяток примеров, множество случаев, которые она не может забыть. У нее это как у слона, во всяком случае, до тех пор, пока она не избыла свои обиды. А избыть их она может только теперь. Потому что лишь теперь, когда Филипп ходит в детский сад, Ингрид хотя бы иногда находит время обдумать то, что нужно было сделать еще тогда. Беда в том, что в водовороте повседневных забот она не находила времени осознать и потому не могла оценить, как мало поддержки она получала со стороны Петера. Именно потому ей и приходилось пробиваться и перемогаться одной. Страх оказаться перед родителями несостоятельной доделывал остальное. И так, между молотом и наковальней, проходили годы.
Ни разу ей не удалось добиться получить помощницу по дому или няньку для детей. Петер становился поперек дороги с одним и тем же аргументом, что ненавидит эти полусемейные связи, что не хочет стоять навытяжку перед чужими людьми и постоянно выполнять роль шофера. Так и шло. Предложение ее отца освободиться от налогов на няньку, проведя ее в качестве помощницы по упорядочению его рукописных трудов, даже не обсуждалось. И расплачивалась за все Ингрид. Если бы не госпожа Андрич и другие соседки, ей впору было бы повеситься.
Она была молодая, хоть и не казалась такой уж юной: двадцать, двадцать два, двадцать четыре. Она не всматривалась в свое отражение, а может, и не хотела видеть то, что следовало бы оценить более критично. Не то чтобы ее некому было предостеречь. Сама виновата, теперь она только так может сказать. Ибо теперь ей приходится признать, что она многое себе напридумывала. Большое счастье, например. Если быть честной, его у нее никогда не было.
А теперь? Теперь приходится пожинать плоды. Она должна приложить все силы, хоть это и нелегкая задача, к тому, чтобы любить Петера таким, какой он есть, — с его дружелюбной, беззаботной, последовательно отстраненной, въевшейся в кровь равнодушной повадкой.
Если продолжить, то с его в высшей степени порядочной, добродушной, самоуспокоенной, нет, непритязательной, обезоруживающей и нетребовательной натурой, закаленной войной и нуждой, научивших его оборонительной манере поведения, избеганию ненужных контактов и так далее и тому подобное…
От суживающейся у грота Нептуна аллеи доносятся крики и смех. Мгновение спустя в поле зрения Ингрид вторгаются подростки, разговаривающие между собой по-итальянски. Они образуют две пары и танцуют вдоль аллеи вальс без музыки. Снег скрипит у них под ногами, они смеются и выкрикивают: «Auguri!»[69] Кара лает. Сисси смотрит невозмутимо, Филипп раскрыл рот и немного возмущен. Ингрид чувствует огромную радость, она обменивается с подростками улыбкой, закидывает концы своего красного шарфа, так гармонирующего с ее густыми волосами, за спину и тоже делает два оборота в ритме вальса. С воображаемым партнером и сигаретой в руке. Впервые за этот день у нее возникает ощущение твердой почвы под ногами.
Вена и вальс, раньше (раньше!) это значило для нее чрезвычайно много.
Когда зажигаются фонари, они уже снова дома. Петер встречает свою семью у дверей, Кара тут же пробирается в дом и шлепает на кухню. Ингрид, расстегивая свое мокрое пальто, получает поцелуй, не совсем как в кино, но все-таки. Она радуется этому, тем более что по-прежнему мысленно наполовину с вдохновенно танцующими подростками. А дальше еще лучше: при вопросе, что это на него нашло, уж не выпил ли он в ее отсутствие все абрикосовое шампанское (он отрицает), Петер снисходит до признания, что не может представить свою жизнь без них троих. Это тоже радует Ингрид, хотя Петер дает тем самым понять, что рассматривает жену и детей как личную унию.
Петер помогает детям снять сапоги. И докладывает Ингрид, кто звонил и кому звонил он сам.
Он говорит:
— Труде велела спросить, не нужен ли нам календарь. Она нам пришлет.
— Очень трогательно, что она о нас помнит.