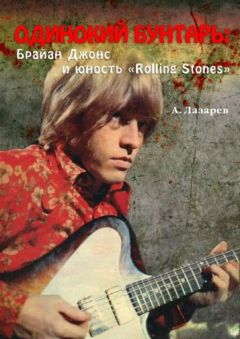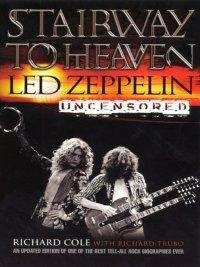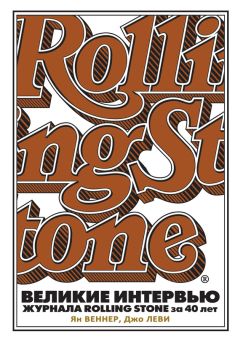Я просидела весь день у стены, водя пальцем по узорам обоев и ни о чём не думая. Потом вспомнила мать, как она вот так же сидела передо мной и бесконечно произносила: «Лжецы, лжецы…» Действительно ли они лжецы или они сами обманутые?
Вечером я собрала несколько своих платьев и книг и ушла. «А ведь так недавно в этой комнате я могла бы умереть от счастья», — думала я, вынув ключ из двери и швыряя его в мусоропровод. Труба, переваривая ключ, железно загудела, и в её хрипе я ничего не поняла.
Несколько раз я ночевала на вокзалах, прежде чем устроилась работать дворником.
Раньше, когда я думала о том, что со мной будет там, за чертой закрытых дверей и надписей: «Детям до 16…», я, как и все девочки, представляла себя королевой бала. Иногда это была сцена, на которой я посылала во все стороны воздушные поцелуи и которую вдребезги разносила орущая толпа мужчин. А то мне казалось, что я могла бы стать учёным или неплохим преподавателем биологии…
Но сегодня я мудро усмехаюсь.
Можно быть и тем, и другим, можно быть только названием, и забыть своё настоящее имя.
ВСЁ МОЖНО.
Только я теперь так не могла. Сколько можно ходить не узнанной и получать плевки или счастье чужим лицом. Я хотела быть только мной или тем, кем я захочу.
Вам хочется знать, красива ли я?
По-моему, да. Я разглядываю в зеркале своё лицо, шею, грудь, отхожу на середину комнаты и в треснувшем, пузырящемся отставшими чешуйками стеклянном глазе вижу свою фигуру.
У меня большие глубокие глаза, в них видна вопрошающая мир душа.
Меня можно любить.
Я мало видела женщин с такими бёдрами, как у меня. Мужчины должны впадать в кромешный чад, целуя их.
Меня можно любить.
Прежде я была, словно спелое деревенское яблоко, пухлая и румяная. Сейчас мои глаза утратили коровью мечтательность и стали гущей, на которой каждый захочет погадать, а яблоко превратилось в гранат, он суше, элегантнее и сок его обжигает губы.
Сколько я себя помню, столько я всегда любила разглядывать себя в зеркале. Как будто страсть к самой себе опьяняла меня с детства. И вот странность, в такие моменты мне казалось, что меня видит ещё кто-то. Сначала смущение не давало внимательно рассмотреть себя, но потом я подумала, что «он», тот, кто видит, — добрый, и когда я стала действительно красивой, то показывала себя и ему тоже. Даже когда я любила без памяти, в излучине зеркальной грани я дарила кусок себя ему. В этой причуде, конечно, повинно моё одинокое детство. Наверное, так рождается вера в Бога. Человек не может быть одинок. И я, предоставленная по большей части самой себе и своим причудливым переживаниям, создала тень. И даже разговаривала с ней, и однажды видела её обведённые синим дымом, глаза. Потом, такие же я нарисую у Жоржа.
И опять передо мной зеркало, а за окнами мутному солнцу рубит голову вечер. Вот так однажды я сидела в ряске сонного ожидания конца дня, и вдруг мне отчаянно захотелось, чтобы по комнате бегало что-то живое. Пусть даже мышь, но лучше собака. Я купила какую-то запуганную псину, и некоторое время была в умильном состоянии от её бешеного аппетита, прыжков, скуления и прочего набора собачьих развязностей. Я стала рьяной со-бачатницей, и по утрам в развевающейся юбке, намотав на руку ремешок поводка, носилась вместе с моим Чёртом в жиденьком кустчатом парке, где комары страшно жалили мне голые ноги. Но вот я стала замечать, как люди, нежно лелеющие своих шавок, в общении с себе подобными напоминают злых цепных кабыздохов, которые, гремя железом, лают на весь белый свет, кроме руки, швыряющей полуобглоданную кость на завтрак. И мне стало стыдно. Нельзя тратить любовь на собак, когда людям её не хватает. Чёрт исчез, и я не долго скучала о нём.
День выдыхался, и слабый его аромат почти не доносился из пузырька солнца. Ещё один вечер, и опять в одиночестве. Там, за обломками солнечных рук, я улыбалась и пыталась любить их всех, но вечер отдать им ещё не могу. Я сижу перед зеркалом, в котором отражается полутёмная комната с белой кляксой моего лица, и чувствую полёт времени. Это страшный пока для меня полёт. Опять я вспомнила, как недавно в нашей квартире умерла одна старушка. Она жила у нас всего месяц, и вся была, словно комок перепутанной шерсти. Такое у неё было лицо. Никто из жильцов даже не знал её имени. Она постоянно сидела в своей комнате и бесконечно много писала писем. У неё были посветлевшие от времени, слегка потусторонние глаза. А звали её Марианилла. Смешное и грустное имя. В нём так и слышится шорох крыльев засушенных бабочек, невесомый восторг пустячными красками, жеманный свист шёлковой юбки, насекомая жизнь и тяжёлое разочарование в конце. Впрочем, может быть, всё было и не так. Я бываю слишком пристрастной. Как её зовут, мне сказал сосед Валерий Иванович. Он иногда заходит ко мне поговорить, но разговора, как всегда, не выходит. Он обычно рассказывает длинные и не интересующие меня истории, и был бы совсем несносен, если бы приходил чаще. Но в последний раз он рассказывал, как несколько квартирантов проводили умершую на кладбище, а после похорон в квартиру вбежал какой-то молодой человек очень встрёпанного вида, и расспрашивал, какие у неё были волосы. И это очень рассмешило Валерия Ивановича.
«Волосы, — говорил он, — ха… ха… ха… какие там волосы».
Когда он достаточно мне опротивел своим хихиканьем и ушёл, я задумалась. Отчего-то в этой смерти и волосах старушки была печальная нота и для меня. Я не могла сказать, что меня волновало, но всё вокруг было таким, что хотелось плакать.
Это было две недели назад, а неделю спустя, после получения письма, произошло событие, разгадка которому — будущее.
Уже стемнело, но я не зажигала большую лампу. Целый день я читала, а к вечеру, закрыв уставшие глаза, задумалась. Я думала о том, что прочтена ещё одна книга, очень старая и правдивая, и скоро я её забуду. Но прошлое должно быть в нас и без книг. Следы ведут гораздо дальше дня рождения. Утерян только ключ к этой запылённой дверце. Мы, дети горнила эволюции, не научившиеся языку матери, а Вселенная стучится сквозь наше сердце и, может быть, не с одного конца. Я покачивалась на зыби веков, медленно кружилась голова.
…Я входила в давно разрушенные дома и дворцы, говорила с людьми, которые ещё не родились. В ущелье меж сосен, не начавших счёт времени, я нашла источник живой воды, а в жаркой пустыне — родник смерти. Их воды отдельно текли по холмам и равнинам, но слились в шумящем волнами море… И я отвела глаза человека на краю пропасти от слепого дыма дна и показала ему тучи и землю, леса и реки, скользящие под ногами оленей на закате истекающего багровым золотом дня. И вдруг дверь моей комнаты открылась. Словно ветер, метнулись олени, и исчезли в углу под креслом. Кто-то молча вошёл и встал возле двери. Он стоял уже минуты три, не двигаясь, не издав ни одного звука. Я побежала к выключателю и зажгла свет. Передо мной стоял человек, удивительно похожий на нарисованного Жоржа. Он был неестественно возбуждён и смотрел на меня, словно на привидение. В ту минуту я не вспомнила о письме и о писавшем его человеке, который мог прийти. Необычайное сходство вошедшего с портретом смутило меня и разбросало мысли в разные стороны. Мы стояли друг против друга и молчали. Тогда мне было только очень жаль его, и хотелось посадить на диван, успокоить дрожащие руки… А он, глядя даже не на меня, подошёл и левой рукой взял прядь моих волос, перебирая их пальцами. Я тихо шепнула ему: «Успокойтесь», но он вдруг кинулся к двери и, не открыв её, остановился перед нарисованным мной портретом. Он разглядывал его очень внимательно и по слогам повторял про себя: «Здравствуй, Жорж». Потом с глухим рычанием кинулся к двери и бешено скатился по лестнице. И тут я вспомнила о письме и бросилась к окну. Он бежал по мосту. Падал снег, светил фонарь позади него на конце мостового изгиба, и тень бегущего страшно металась по стене дома напротив. Внезапно он остановился на месте, уцепившись за решётку перил и, опустив голову, уставился на воду. Чувствуя необратимость происходящего и своё бессилие, книгой я ударила по стеклу и закричала: «Остановись, Жорж». А в это время, нелепо перегнувшись через перила и забросив ноги назад, он, перекувырнувшись через ограждение, упал в воду.
Сегодня с утра я не ходила на работу, а пришла в больницу. Мне сказали, что увидеть его я смогу дня через два. Всего в воде он пробыл минуты три-четыре, но пока его втаскивали на стоявшую неподалёку лодку и переносили в машину, он успел простудиться. У него лёгкое нервное расстройство, но это не страшно, сказали в больнице. Ему нужно будет просто уехать отсюда куда-нибудь на юг, проветриться. Море сделает его здоровым, блеснув улыбкой, сказал врач, но, увидев сомнение в моих глазах, стал говорить о температуре и прочих болезненных вещах.