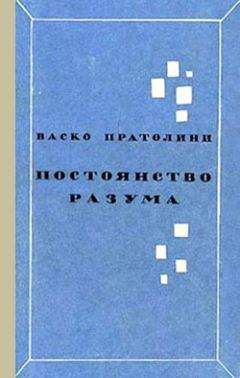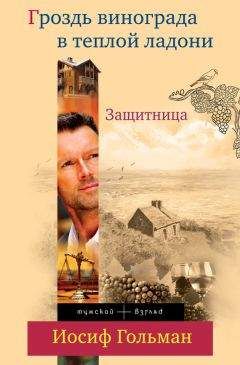– Разумеется, я тебя понял не буквально, когда ты рассказывала мне о своей монашеской жизни в Милане.
– Тогда спрашивай, дуралей, обо всем спрашивай, что тебя интересует! – вспылила она. И тут же: – Прости меня. – Она затормозила. – Теперь ты веди, я вижу там крутой поворотище, боюсь, мне его не одолеть.
Мы поменялись местами, выйдя из машины и обогнув ее – я со стороны багажника, она со стороны двигателя. Сидя рядом, но не касаясь друг друга, мы двинулись дальше и молча миновали длинный поворот; роща осталась позади, впереди виднелся железнодорожный переезд. На развилке Торре-дель-Лаго скопилось множество машин, и нам пришлось остановиться. Она закурила и сидела, сложив руки на сумочке, лежавшей у нее на коленях; незаметно наблюдая за Лори, я видел ее неподвижный профиль, гладкую кожу, маленький, круглый, вызывающий подбородок. Я тоже вытащил из пачки сигарету, она протянула мне свою, чтобы я прикурил. Мы медленно двигались в колонне машин. Наконец она спросила:
– Ты все еще дуешься?
– Я ждал, что ты заговоришь первая.
Мы улыбнулись.
– Давай, – сказала она, – обгоним справа и мигом обставим всех.
Не заезжая в Виареджо, мы продолжали путь по автостраде Аурелия. Теперь я мчался по следам своих воспоминаний, физически ощущая их бремя и радуясь тому, что метр за метром подминаю их под колеса: я ориентировался больше по памяти, чем по дорожным указателям. На участке от железнодорожного переезда до перекрестка Лидо-ди-Камайоре, Марина-ди-Пьетрасанта, Фьюметто я вдруг понял, что машина – та, прежняя, что за моей спиной ерзаю я сам, любопытный и непоседливый мальчишка, что я – Милло, а Лори – Иванна; наваждение длилось ровно столько, сколько мы молчали; лучи солнца, всплывшего над сосновой рощей, падали на дорогу сбоку, покрывая ее причудливым узором.
– Где-то тут должен быть рекламный щит, – сказал я, – и на дороге к Форте-деи-Марми – траттория. Обыкновенная хижина, где ели саперы.
Вместо траттории я увидел, свернув с автострады, вереницу вилл, больших и поменьше, и вокруг – ни души, как будто непрошенные гости, мы ворвались на своей старой перечнице в спящую деревню, где среди бела дня продолжалась ночь.
– Ты разочарован, да? – спросила она.
– Я начинаю понимать, что значит много лет подряд носить в себе прежние чувства.
Что правда, то правда. Может быть, заразившись от нее, я испытывал чувство страха, опустошающее мозг и комом стоящее где-то внутри; это отвращение к пище и одновременно голод, привкус желчи во рту и сладостное забытье, которому хотелось бы предаваться бесконечно, смутно сознавая, что ты во всем решительно ошибался и тебе уже ничего не исправить – ни поступков, ни их причин, – будто ты заблудился и сдался. Это потемки духа, черный ад. В таком случае спасительной гаванью должна стать действительность, энергия, сила воли, жизнелюбие, которые помогут обрести уверенность в себе. Я заглушил мотор перед сухим кустарником, обратив внимание на выжженную местами землю.
– Кажется здесь, – сказал я. – Теперь это похоже на кусок пустыни, вытоптанный слонами. Кто-то разводит тут костры.
Я готов был расплакаться – настолько неожиданной и неистовой была охватившая меня тоска, чувство для меня новое, мерзкое, отвратительное, от которого не знаю, как бы я избавился, не подставь мне Лори свое лицо, открытое, юное, озаренное светом влюбленных глаз. Поцеловав ее, я навсегда убил в себе это дурацкое, гнетущее чувство.
– Я знаю, – сказала она, – так бывает.
– Но ведь, когда я приезжал сюда с Милло и с матерью, мне было весело. Правда, я был маленький, что я мог понимать? Я очень смутно все помню.
Тем не менее довольно долго я не мог освободиться от ощущения, будто я на кладбище и, вернувшись домой, никого из них не увижу: ни Иванну, ни Милло – и никто не приготовит мне ужин, никто не будет ждать нас у входа в молочную на виа Витторио и беспокоиться за нас и за свой драндулет, если бы мы опаздывали.
– Мы слишком много думаем о других, – заключил я. – Даже тогда, когда не хотим думать. Все. Уже прошло.
Мы выехали к морю и поставили машину рядом с невысоким павильоном пляжа, летом – вообразить только! – здесь наверняка были музыкальные автоматы и плетеные шезлонги, масса обнаженных тел, лежаки и огромные зонты, жара, жажда. На пустынном берегу – похожие на покинутые казематы купальни с полустертыми влажным ветром, ничего не говорящими названиями: «Юго-восток», «Волна», «Флавио», «Санта-Мария»; только вдали, маленькие как оловянные солдатики, прогуливались несколько человек. Мы уселись на песок, не столько холодный, сколько влажный, весь слипшийся, грязный, покрытый тиной. Море было беспокойным и рвалось к нам и вновь отступало, когда до нас оставалось несколько шагов. Оно сверкало там, где солнце мчалось на гребнях волн, бросая туманное отражение на горизонт, и эта дымка как бы поглощала яркий, слепящий свет. Место было самое обыкновенное, так себе, ничего особенного, и ничто не отвлекало нас от наших мыслей. Ветер, который несли те же волны, мешал говорить, заставляя нас то и дело переводить дыхание. Она сказала:
– Да, Бруно, никогда нельзя считать прошлым то, о чем мы все еще думаем.
Внезапно она поднялась, скинула туфли и, держа их в одной руке, с сумкой в другой, спотыкаясь, борясь с ветром, побежала. Я настиг ее с разбегу, не рассчитав, толкнул, и мы грохнулись на песок, борясь, срывая друг у друга с губ жаркие поцелуи.
– Когда ты думаешь о будущем, – спросила она потом, – что ты видишь?
– Цех «Гали» и станок «женевуаз».
– И сам ты – в белом халате, и летом тебе не будет жарко, ведь там кондиционированный воздух.
– Еще бы! – ответил я в тон ей. – Это не шуточки.
Медленно бредя по пляжу, мы вышли к устью Чинкуале, которая шире, чем Терцолле и Муньоне, вместе взятые. Дыхание моря, казалось, заставляло реку бежать быстрее; и, отражаясь в ней между землисто-зелеными берегами и вставая по обе ее стороны, там, вдали, высились Апуанские горы, рассеченные каменоломнями, синие, но не такой, как небо, синевы. На деревьях и по склонам виднелась уже по-настоящему весенняя прозелень. Мы двинулись по берегу в сторону гор, полагая, что выберемся на идущую вдоль моря дорогу.
– Уж не борьба ли с буржуазией наводит на тебя такую тоску?
– Не бойся, я не ошибусь в выборе окопа, – ответил я серьезно. – И в этой борьбе ты будешь рядом со мной.
– А я не надоем тебе? Или ты мне, «пожалуй», как сказал бы Милло.
– Нет. До тех пор, пока мы любим друг друга. Постой, кто же из нас рассуждает по-стариковски?
– Я, сознаюсь. Мне вспомнился тот вечер, когда приходил Бенито.
Снова, как в тот вечер, что-то отвлекло меня либо я сам захотел отвлечься – это вернее. За излучиной реки я увидел огромную, от берега к берегу, рыбацкую сеть. Ее выбирали из воды, хлопоча над незатейливой лебедкой, парнишка в свитере и синих джинсах и старик, закутанный в допотопный брезентовый плащ, в кепке, надвинутой на уши. Наконец «сачок» был закреплен в нужном положении и можно было собирать улов: парнишка накинул на плечи кусок клеенки, влез в лодку и против течения поплыл к сети, на дне ее трепыхались несколько рыбешек – чуть больше горсти. Парень нагнулся и подлез под сеть, с которой на него стекала вода, развязал в каком-то месте шпагат, так что рыбешки посыпались в лодку, собрал их в ведерко, снова затянул отверстие в сети и вернулся на берег.
– Две кефали и несколько угорьков, – доложил он.
Старик, возможно, слышал, но ничего не сказал, как будто речь шла о древнем таинстве, к которому он был непричастен; он освободил лебедку, и сеть мигом ушла под воду, после чего он уселся возле лебедки, сложив руки на коленях. Мы стояли в нескольких метрах над ними, облокотившись на перила мостика. Того, что интересовало меня, Лори, казалось, даже не видела. И меня поразили, застав врасплох, ее слова – продолжение мысли, очевидно занимавшей ее все это время.
– Ты прав. Неправа я. И впредь мне не следует говорить с тобой о нем.
Я сделал усилие, чтобы вернуться к разговору: она упомянула про Бенито, потому-то я и отвлекся.
– Конечно, – согласился я. – Судить о нем могу только я – ты ведь его не знала.
Парнишка обернулся и посмотрел на нас снизу.
– Где мы? – спросил я.
– Это дамба Чинкуале.
– А как попасть к Форте?
– Идите дальше по дамбе, а там свернете на дорогу, по ней и ступайте.
– А по берегу нельзя?
– Тоже можно, но так дальше. – Он привязал лодку, стянул с плеч клеенку. – Однако берегом проще, – прибавил он, ставя ведро на землю.
Мы поблагодарили его. Она взяла меня под руку, и мы поднялись по берегу до зарослей тростника, которые преградили нам путь, густые и непроходимые, не то что камыши под моим домом. Дальше мы пошли лугом, разгороженным плетнями, все еще топким, забытым солнцем; луг пересекала узкая тропинка, и нам нужно было идти по ней друг за другом, чтобы не промочить ноги. Мы добрались до небольшой рощи: посреди долины, которая тянулась от излучины реки до берега какого-то канала, росли каменные дубы, дубки и сосны. На опушке виднелась скромная, под испанский домик, вилла с камышовой крышей и закрытыми ставнями. Я снял плащ и расстелил его у подножия самого большого дуба, мы уселись под его ветвями, одни среди тишины. Я молча склонился над Лори, и она ответила мне лаской, и ее ладонь скользнула по моей щеке, коснулась лба и замерла на моем затылке.