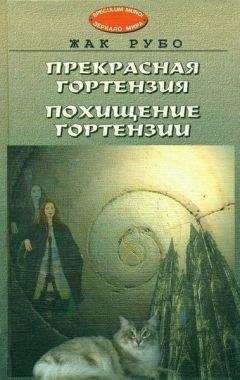И последнее, самое важное: однажды Карлотта вернулась из лицея на час раньше (сумев убедить учителя истории, что у него отстали часы: она потом два месяца хохотала над этой проделкой) и не обнаружила в квартире Мотелло. Она звала его, заглядывала во все углы. Ей уже представилось, будто он выпал из окна, сломал лапу, уполз в кусты и не может позвать на помощь. Она позвонила в кафе «Императорская развилка», где Лори, как обычно, пила послеобеденную кружку «гиннеса»: Лори сказала, что не выпускала Мотелло, и он должен быть дома.
Через пятьдесят минут, после безуспешных поисков по всему кварталу, Лори и Карлотта пришли домой и увидели Мотелло на кухне. Когда его спросили, где он был, он стал уверять, будто заснул в шкафу над мусорным ведром — а ведь Карлотта точно помнила, что заглядывала туда. Эта загадка так и не прояснилась, но я заметил (хотя никому не сказал о этом), что он появился как раз в то время, когда Карлотта обычно возвращалась из лицея.
Предоставляю вам самим сделать выводы из этих трех фактов.
Так или иначе, одно обстоятельство казалось мне неопровержимым: Мотелло вовсе не был годовалым, но удивительно смышленым котом-подростком, за которого себя выдавал.
_________
Примерно в то же время, когда Мотелло пришел к Лори и Карлотте, возможно, чуть раньше, а возможно, чуть позже — для нашей истории это не имеет значения — в пустовавшую квартиру на четвертом этаже слева в третьем подъезде дома 53 въехал новый жилец. Я это знаю, потому что я Автор и знаю все, а вы это знаете, потому что я вам об этом говорю.
Я не могу сделать вас прямым свидетелем этой сцены: тогда нам с вами пришлось бы совершить сколь неуклюжие, столь и бесполезные кульбиты во времени и в пространстве. Не забывайте, что мы уже, с одной стороны, сидим в «Гудула-баре», почти рядом с Лори и Гортензией, а с другой стороны, присутствуем на уроке геометрии. Хватит с нас и этого. Так что придется вам поверить мне на слово.
Упомянутая квартира оставалась пустой очень долго, с того дня, который последовал за воскресным торжеством у Польдевской капеллы и переименованием отрезка улицы Закавычек в улицу аббата Миня. В тот памятный день, день исчезновения Александра Владимировича, оставившего мадам Эсеб скорбной и безутешной (хоть и не вдовой: ведь ее муж Эсеб был в добром здравии), большой фургон полностью вывез из квартиры неизвестно какое количество мебели и других содержавшихся там вещей: неизвестно какое, потому что контейнеры были наглухо закрыты, и полностью, потому что я вам это говорю. И вот в квартире появился новый жилец. Большой фургон полностью доставил неизвестно какое количество мебели и других вещей в наглухо закрытых контейнерах. Новый (?) владелец (или съемщик?) квартиры дал на чай кряжистым, мускулистым грузчикам, а перед этим побеседовал с ними, чтобы вдохновить на добросовестный труд: «Сегодня хорошая погода, — говорил грузчикам новый жилец квартиры на четвертом этаже слева в третьем подъезде, — но в воздухе чувствуется прохлада». А грузчики хором отвечали: «Дождик-дождик, перестань, мы поедем в Иордань!» (Это были грузчики в старинном духе). А еще, протягивая им монету, — как выяснилось, золотую и польдевской чеканки, — он сказал: «Держите, молодцы, и пейте за мое здоровье», — грузчики поблагодарили его, сказав: «Осушим мы чашу и снова нальем». Это было его единственное появление на публике. Он не вступал в разговоры ни с мадам Батюс, новой консьержкой, ни с мясником Буайо, который жил в этом же доме; его не видели ни в булочной Груашана, ни в «Гудула-баре», ни в москательной лавке Лаламу-Беленов. Он не получал писем, выходил из дому с наступлением темноты и сразу исчезал, словно умел проходить сквозь стены, а возвращался на рассвете. По словам мадам Батюс, раза два или три встречавшейся с ним на площадке первого этажа, это был молодой человек лет двадцати восьми-тридцати двух, недурной наружности, ростом чуть выше среднего, со светло-каштановыми волосами, глазами неопределенного цвета (было темно, и он не дал ей времени вглядеться внимательнее), с длинным, изящным носом и без особых примет. Он был удивительно тихий: ни единого звука не проникало из его квартиры в квартиру Лори, хотя их разделяла лишь тонкая стенка.
Примерно тогда же, когда к Лори явился Мотелло, а в соседнюю квартиру вселился таинственный новый (?) жилец (владелец?), а может быть, чуточку позже или чуточку раньше — для нас это роли не играет — Карлотта и Эжени совершили грандиозное открытие.
Как-то в субботу, после обеда, они играли в сквере в бадминтон, коротая время до передачи «Звездная дорожка», и вдруг от мощного удара Карлотты волан перелетел через ограду, отделяющую сквер от огорода возле Польдевской капеллы. Вокруг никого не было: все уехали за город по случаю хорошей погоды. Поэтому Карлотта смело перелезла через ограду и забралась в польдевский огород, засаженный салатом латук. Было божественно тихо; обитавшие в огороде улитки мирно храпели на свежем воздухе. Карлотта не сразу заметила волан и махнула рукой Эжени, зовя ее на помощь. Между тем волан грациозно приземлился у небольшого сарайчика, сколоченного из неплотно прилегающих друг к другу досок: выступ стены защищал его от посторонних взглядов как со стороны сквера, так и со стороны дома 53, а также с улицы аббата Миня. На цыпочках, чтобы не потревожить царственный сон улиток, Карлотта подошла поближе и… онемела от удивления; из сарайчика раздался звук, похожий на стон, жалобный, недовольный, но полный достоинства, унылый, но мужественный, — впрочем, какими бы ни были психологические нюансы, различимые в этом звуке, природа его не вызывала сомнений: это было ржание. В те времена Карлотта еще переживала страстное увлечение лошадьми. Она знала наизусть все статьи «Лошадиной энциклопедии», выписывала журнал «Всадник», преодолевала препятствия так же легко, как трудности геометрии и была горячо привязана к чистокровному арабо-английско-польдевскому жеребцу по имени Ростанг. Услышать и распознать ржание, даже приглушенное, она могла бы и за шесть километров.
Она сделала знак Эжени, чтобы та подошла как можно тише. Они заглянули в щель между досками и увидели
поничудесного, грустного, одинокого, трогательного польдевского пони золотисто-серой масти, с густой рыжей гривой, представителя самой горделивой, самой дикой, самой неукротимой, самой прекрасной породы пони, какая существует на свете. Пони тоже посмотрел на них, нашел, что они милые, и выразил сильнейшее желание познакомиться с ними поближе. Это желание было взаимным. Они досыта накормили его салатом (предварительно извинившись перед улитками, которых пришлось разбудить и перенести на другие растения), поцеловали его в морду, пообещали принести морковки, а когда он попросил редиски, пообещали и это. Они узнали, что его зовут Кирандзой. Все трое еще раз бурно расцеловались. Эжени и Карлотта перелезли через ограду в сквер и отправились к Карлотте на совещание на высшем уровне.
В то время стены комнаты Карлотты были целиком заполнены лошадьми, а группа «Дью-Поун Дью-Вэл» еще пребывала в туманном будущем. Однако с некоторых пор между Карлоттой и Лори, равно как и между Эжени и ее матерью возникли определенные трения. В обоих случаях суть теоретических разногласий между матерью и дочерью была одна и та же: дочь хотела приобрести лошадь, а мать отделывалась от нее дурацкими отговорками типа: «На какие деньги?» либо «Где мы будем ее держать?». Матерям эти аргументы казались вескими и неопровержимыми, дочерям — мелочными и надуманными.
И вот, к удивлению Лори и матери Эжени (которые, правда, не делились друг с другом впечатлениями и тем самым упускали возможность побольше узнать о дочерях), многомесячные, нудные и непрерывные, как китайская пытка, разговоры о покупке лошади разом прекратились и больше не возникали. Лори связывала это с появлением Мотелло. Мать Эжени тоже нашла какое-то объяснение (какое именно, не знаю), и они забыли об этой истории. Вскоре обе матери, одновременно и независимо друг от друга, стали замечать, что сдача с суммы, выданной для похода в магазин, и вообще мелкие деньги таинственным образом испаряются. Это были благоразумные матери, они решили не придираться, подумав, что надо снисходительно отнестись к возросшим потребностям дочек; они прикупили девочкам кое-что из одежды, добавили карманных денег; но мелочь продолжала исчезать, хоть и не так заметно.
Теперь я могу рассказать, какой благородной и важной цели служили эти деньги: на них покупали сласти для пони Кирандзоя, чтобы облегчить ему страдания, вызванные необходимостью скрываться и жить взаперти, как того требовала его высокая, ответственная миссия, характер которой он раскрыть не мог, хотя горел желанием сделать это.
Иногда, в сумерках, они забирались в сад и делали по нему несколько кругов галопом. Однажды Мотелло увидел их и улыбнулся в усы.