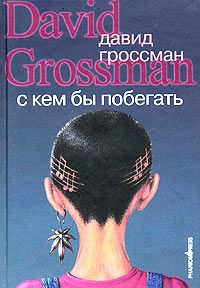И не просто пустой: ему казалось, что до того, как она вошла в его жизнь, он действовал почти механически, как автомат, не размышляя и не чувствуя по-настоящему. А теперь, со вчерашнего дня, всё, что с ним происходит, каждый человек, которого он встречает, каждая мысль – всё привязано к какому-то единому центру, глубокому и полному жизни.
Он открыл рюкзак. Всё делал очень медленно. Расстёгивание пряжек волновало его, потому что их застёгивала она. Он думал, что ещё мгновение, и он встретится с чем-то из её жизни. Это было слишком много. Всего было слишком много. Он положил перед собой раскрытый рюкзак.
У Динки не было терпения. Она, пыхтя и сопя, кружила вокруг рюкзака, топтала и рыла землю и непрерывно лезла носом в рюкзак. Он засунул руку. Ощутил прикосновение слежавшейся, отсыревшей одежды. Вдруг до него дошло, что он делает, и он смущённо остановился. Да что это, ведь он же вторгается в её частную жизнь.
Быстро, не давая себе времени на сомнения, он вытащил длинные джинсы "Ливайс". Цветную индийскую блузку, сильно измятую. Лёгкие сандалии. Тщательно разложил всё на земле и загипнотизировано смотрел. Эта одежда касалась её. Была на её теле. Впитала её запах. Если бы не стеснялся Динки, он бы понюхал её, как это делала сама Динка, тоскующе подвывая.
А впрочем, почему бы и нет.
Он сразу увидел, что она и вправду маленькая. Метр шестьдесят, сказал полицейский. Да, как он и думал: она ростом примерно ему по плечо. Он выпрямился и расправил грудь. Поджал под себя ноги. Смотрел, и не мог насмотреться. Внезапно – как говорит его мама? – он почувствовал, что радость наполнила его до кончиков ушей.
Он пошарил рукой среди оставшейся в рюкзаке одежды. Нащупал бумажный пакет. Вынул его. Отложил в сторону. Ещё порылся в рюкзаке. Нашёл тоненький серебряный браслет. Провёл по нему пальцем. Если бы он получше разбирался в сыске или в девушках, он бы попробовал поискать на браслете другие знаки, кроме обрамлявшего его цветочного орнамента. И именно он, с ювелирным опытом Рели, обязан был исследовать его более тщательно. Но, кто знает, может быть, именно из-за Рели он сразу же положил браслет обратно в рюкзак и упустил возможность узнать полное имя Тамар, выгравированное на нём.
Потом, спустя много недель, пытаясь восстановить свой странный поход по её следам, из тех бесконечных повторов, когда человек думает "если бы я сделал так – получилось бы так", он сделал вывод, что ему повезло, что не обнаружил в ту минуту её фамилию на браслете. Потому что, если бы обнаружил, то нашёл бы адрес её родителей в телефонной книге и поехал бы туда. Её родители забрали бы у него Динку и уплатили бы штраф, и на этом всё и закончилось бы.
Но в ту минуту он думал только об одном: перед ним в закрытом бумажном пакете лежало что-то. Он не решался открыть, так как чувствовал, или догадывался, или надеялся, что там что-то важное, что она должна была так упаковать. Он пощупал. Подумал, что там книги. Может быть, её альбомы с фотографиями? Динка скулила: нет времени. Он открыл и заглянул внутрь, и у него вырвался лёгкий стон. Тетради. Пять. Часть из них толстые, часть – тонкие. Он сложил их в стороне, одну на другой, маленькой компактной стопкой. Протянул руку, как не свою. Взял одну. Полистал, пробегая глазами по листам и не решаясь прочитать. Страницы, покрытые убористым, неразборчивым почерком.
"Дневник", было написано на обложке первой тетради среди весёлых наклеек Бемби и рисунков разбитых сердец и птичек. Буквы были детские, внизу были три красные линии: "Не читать! Личное! Пожалуйста!!!"
- Как ты думаешь, - пробормотал Асаф, - бывают ситуации, когда можно читать чужой дневник?
Динка посмотрела в другую сторону и облизнулась.
- Я знаю. Но, может быть, здесь написано, где она? У тебя есть идея получше?
Она снова облизнулась. Сидела прямая и задумчивая.
Асаф открыл. На первой странице увидел двойную красную рамку. И в ней – настоящий вопль: "Папа и мама, пожалуйста, пожалуйста, даже, если найдёте эту тетрадь, не читайте!!!"
А внизу большими буквами: "Я знаю, что вы уже несколько раз читали мои тетради. У меня есть знаки. Но я вас просто умоляю, эту тетрадь не трогайте, не открывайте, пожалуйста! Я прошу вас, хоть один раз проявите уважение к моей личной жизни! Тамар".
Закрыл. Просьба была такой трогательной и молящей, что он не решался отказать. И ещё его потрясло, что её родители способны заглянуть в её дневник. У нас дома, с гордостью подумал он, я мог бы оставить такой дневник (если бы я его вёл) открытым на столе, и родителям даже в голову не пришло бы в него заглянуть.
У его мамы был дневник, в который она почти каждый день что-то записывала. Иногда он её спрашивал – в последнее время всё реже и реже – что она там пишет, о чём можно так много писать, что такого происходит в её жизни? И она говорила, что записывает свои мысли и мечты, и свои беды и радости. Когда он был поменьше, то постоянно спрашивал её, можно ли и ему почитать. Она улыбалась, прижимая тетрадь к груди, и говорила, что дневник – это личная вещь, только её. Что, удивлялся он, ты даже папе не даёшь читать? Представь себе, даже папе. Асаф вспомнил теперь, как годами занимала его тайна дневника: что у неё там есть такого, что она не разрешает им читать? А, может, она и о нём пишет? Он, конечно, спросил её, пишет ли она о нём. Она рассмеялась своим широким раскатистым смехом, с откинутой назад головой и дрожащей копной кудряшек и сказала, что всё, что она о нём пишет, она с радостью говорит ему тоже. Так зачем же это писать, крикнул он сердито. Чтобы поверить в это, сказала она, в это счастье.
А, когда его мама говорила "это счастье", она всегда имела в виду то, что у неё родились он, Рели и Муки. Потому что мама оставалась не замужем до позднего возраста (так она, по крайней мере, считала), и, когда встретила его папу, уже была уверена, что никогда не выйдет замуж, и вдруг, из-за короткого замыкания и неполадок с предохранителем, она встретила этого милого, круглого и весёлого электрика, который мигом согласился прийти, почти ночью, и всё исправил, а во время ремонта она чувствовала, что должна его развлекать, и, стоя рядом с ним, спросила его о чём-то и была очень удивлена, что он начал рассказывать ей о своей маме, то есть – прямо сразу начал и признался, что ему необходимо уйти из маминого дома и снять себе квартиру, но мама просто цепляется за него и не отпускает, он говорил, не глядя на неё, и казался ей застенчивым, не имеющим опыта с женщинами, и потому её так поразила его откровенность (которая очень удивила и его самого), потому что, как только она задала ему правильный вопрос, вопрос от сердца, из него вырвался поток слов, мыслей и сомнений, который, очевидно, годами сдерживался внутри. Она стояла у открытого электрошкафа рядом с ним, немного выше и шире него, держала свечку и чувствовала – и тут даётся знак Асафу и Рели, а в последний год и Муки, кричать хором: как он выбил все её пробки.
Потом, с течением лет, Асаф перестал размышлять о её дневнике. Приучил себя не думать о нём. Привык видеть, как мама, обычно по вечерам, уходит в маленькую комнату, свою "канцелярию", садится на старый диван в широких шароварах и громадной свободной блузе, опираясь на высокие подушки, "как важная восточная госпожа", по её словам, но, грызя ручку, как школьница, и пишет.
И теперь это почему-то опять забурлило в нём, как в прошлые годы: может быть, она уже несколько недель и месяцев назад писала там о том, что Рели под большим секретом рассказывала ей из Америки? Может быть, её дневник знал о новом друге Рели ещё тогда, когда я и Носорог о нём даже и не подозревали?
Он снова открыл тетрадь. Динка искоса бросила на него быстрый взгляд. Ему послышалось её лёгкое угрожающее рычание. Закрыл.
- Я не её родители, - объяснил он ей и себе, - и не знаком с ней. Ей будет действительно всё равно, если я прочитаю, поняла?
Молчание. Динка смотрит на небо.
- Я же, в сущности, для неё стараюсь, чтобы привести тебя к ней, так? – Молчание. Но уже слегка смягчившееся. Да, это казалось логичным. Можно продолжать в том же направлении. – Поэтому я вынужден использовать всё, каждую подсказку, каждую информацию, чтобы узнать, где она!
Динка издала короткий лай, немного порыла когтями землю, как всегда, когда была растеряна. Он продолжал наступать:
- Послушай, она даже не узнает, что я читал. Я найду её, отдам ей тебя и всё, - его прямо восхищало, насколько он убедителен, - и больше никогда в жизни ей не придётся со мной встретиться, мы будем, как чужие, навсегда!
Она вдруг перестала рыть землю. Повернулась всем туловищем и встала перед ним. Её коричневые глаза изучающе смотрели в глубь его глаз. Асаф не двигался. Такого взгляда он никогда не видел у собаки. Взгляд говорил ему с этакой собачьей усмешкой: "Ну, в самом деле". И Асаф моргнул первым.
- Я читаю! – сообщил он и демонстративно повернулся спиной. Сперва быстро пролистал, привыкая к тому, что он здесь делает. Ему чудился лёгкий запах крема для рук, возможно, перешедшего с её руки, прижатой к листам. Потом быстро пробежал глазами несколько строк. Не читая, только так, чтобы он и её буквы привыкли друг к другу. Он видел детский почерк, маленькие рисунки карандашом на полях. Улитки и лабиринты.