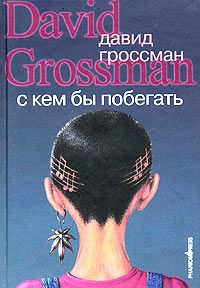- Я читаю! – сообщил он и демонстративно повернулся спиной. Сперва быстро пролистал, привыкая к тому, что он здесь делает. Ему чудился лёгкий запах крема для рук, возможно, перешедшего с её руки, прижатой к листам. Потом быстро пробежал глазами несколько строк. Не читая, только так, чтобы он и её буквы привыкли друг к другу. Он видел детский почерк, маленькие рисунки карандашом на полях. Улитки и лабиринты.
И вдруг, в одно мгновение, он погрузился в него: ...но откуда Мор и Лиат и все знают, что они будут делать, кем работать и с кем поженятся, а она всё время погружена в свои глупости и фантазии, ни капли не представляя себе, как сделать, чтобы её будущее наконец-то началось! Она боится, что женщина во сне была права, и что у такой лентяйки и мечтательницы, как она, вся жизнь будет ошибкой, жизнь-ошибка!!!
Он положил тетрадь на колени. Ничего не понял. О ком она здесь говорит? Но написанное – сами слова, ритм мыслей и восклицание в конце – вызвали в нём странное волнение. Он ещё полистал. Много коротких кусочков. Описание сумасшедшего, которого видела на улице. Котёнка-сироты, усыновлённого Динкой. Страница с одной единственной строчкой: как вообще можно жить, зная, что случилось во время Холокоста. Вдруг он увидел иностранные буквы. Пригляделся получше, и понял, что это иврит, написанный зеркальным почерком. У него не было достаточно времени на расшифровку; но, перевернув лист, он подумал, что у неё, наверно, была особая причина зашифровать то, что она там написала. С упорством и усилием он медленно прочитал: иногда она думает, что, наверно, есть такой мир – чтение этой страницы займёт у него несколько часов. Он подошёл к велосипеду. С помощью маленькой отвёртки, которая всегда была приклеена сзади к его ботинку ("Отвёртка – это как носовой платок, - учил его отец, - никогда не знаешь, где пригодится"), он отвинтил зеркало. Вернулся к дневнику и бегло прочитал: что, наверно, есть такой мир, где люди уходят утром на работу или в школу, а вечером каждый возвращается в другой дом, и там, в другом доме, каждый как бы играет свою роль, роль "Отец", или "Мать", или "Ребёнок", "Бабушка" и т. д. И весь вечер они там разговаривают, смеются, едят, ссорятся, смотрят вместе телевизор, и каждый ведёт себя точно по своей роли. Потом идут спать, а утром встают и снова идут на работу и в школу, и вечером возвращаются, но тоже в другой дом, и там – всё с начала. Отец – он отец другой семьи, Дочка – дочка в другой семье, и, так как за день они забывают, что было вчера вечером, им всегда кажется, что они у себя дома, в правильном доме. И так всю жизнь.
Он медленно отложил тетрадь. Эта фантазия взволновала его, лишила покоя. Он, конечно, сразу же подумал о своём доме. Что, если это правда? Что, если он каждый вечер идёт в другой дом, встречает других людей, совершенно чужих, и зовёт их мамой и папой? Нет. Он сразу же отмахнулся, у нас такого не может быть. Запах своей мамы он различит среди тысячи других мам. И прикосновение папиной руки к своей щеке, и его неизменные, действующие на нервы шуточки, не говоря уже о Муки, которую он узнает с закрытыми глазами среди тысячи шестилетних девочек.
Открыл другую тетрадь, более позднюю. Полистал. Закрыл. Её странная фантазия не оставляла его. А может, она всё-таки немного права? Если она совсем ошибается, то откуда у него это ощущение в сердце, похожее на ожог, где-то далеко-далеко?
Он перевернул лист: Но она некрасивая. Некрасивая. Неважно, что все говорят, почему они её обманывают. Лиат как-то сказала ей, года два назад: "Сегодня ты почти красивая". Для неё это был самый большой комплимент, потому что "почти" доказывало, что это правда. Но, когда она думает об этом сейчас, ей хочется кричать из-за того, что внешняя красота определит её судьбу!!! (Но она и вправду красивая, запротестовал Асаф, вспомнив, как описала её Теодора, и даже тайный агент был вынужден признать это; Асаф немного пожалел её и, вместе с тем, почувствовал странное облегчение, именно потому, что, может быть, она не такая уж ослепительная красавица.) ...После школы она пошла в кафе "Итра". Там была одна пожилая женщина, лет сорока, примерно. С прямыми короткими волосами до шеи, в чёрных очках, толстых и не модных, и с совершенно ужасной кожей. Сидела и мешала ложечкой кофе, наверно, полчаса мешала и не пила. Но она не мечтала, потому что у неё был нервный взгляд. Потом она вынула книгу, о которой я подумала, что она на английском, и ещё полчаса, не меньше, читала, но когда я, проходя мимо, заглянула, то увидела, что книга на иврите! И что она читает её задом наперёд! Я записываю в памяти, что всё полно тайн. Я уже не так наивна, как в детстве, и знаю, что у каждого человека свои тайные игры. И ещё одна мысль с сегодняшнего урока физкультуры: что была какая-то мутация, что вся одежда на свете исчезла, испарилась и всё, нет одежды! И все должны были бы ходить голыми везде, в рестораны, в школу, на концерты. Бррррр! Кстати о женщине в кафе, она выглядела, как журналистка или судья. Она понимает, что такой будет она сама лет через двадцать пять, как умная и печальная судья, рядом с которой никто не садится.
Асаф сидел смущённый. Одно дело открыть чей-то дневник, чтобы найти подсказки, которые приведут к нему. И совсем другое дело так заглядывать в душу. Но это заглядывание уже делало своё дело. Что-то было там, в словах, в грусти, в одиночестве, от чего Асаф не мог отделаться. Он открыл другую тетрадь, потолще. Будь у него несколько спокойных дней, он бы сел и всё прочитал. От начала и до конца, проникая в её жизнь. Но Динка снова забеспокоилась, и он сам, из-за того, что нашёл в дневнике, испытывал нетерпение и ещё больше стремился наконец-то добраться до неё. Поэтому, поспешно пролистав, он перешёл к другой тетради, увидел изменившийся почерк, более взрослый, уже не было нарисованных улиток на полях. Он замешкался перед ещё одним листом, исписанным зеркальным почерком: 3.3.98 И. и А. всё время над всем смеются. Они обладают той лёгкостью, которой нет у неё. Раньше и у неё она была. Когда была маленькая, она почти уверена, что была. И. и А. тоже не всегда были такими весёлыми. Но они как бы умеют играть и "роль весельчаков" тоже. Может, у них это действительно по-другому, потому что у них нет того, что есть у неё. Сегодня мысли особенно черны. Везде крысы. Что случилось? Ничего. Нужна причина? Вчера была у Тео, и они разговаривали о фильме "Небо над Берлином". Какой божественный фильм! Если она вырастет, она будет снимать сюрреалистические картины, в которых всё возможно. Эта идея, что ангелы могут ходить среди людей и слышать их мысли. Ужасно здорово. (И просто ужасно). Был большой спор, есть ли жизнь после смерти, или нет. Т. не верит в Бога и всё равно убеждена, что есть, и что её жизнь в "юдоли плача" не имеет смысла, если нет какой-то гарантии жизни после этого. Я сидела тихо и послушно, пока она не кончила говорить, а потом сказала, что у меня всё наоборот! То есть, что мне необходимо знать, что жизнь только здесь, и не дай Бог, чтобы было переселение душ!!! Только представить, что придётся пройти через это всё ещё раз!
Он захлопнул тетрадь, как будто заглянул в открытую рану. Его больше не сбивали с толку внезапные переходы между "я" и "она". Эта Тамар, она такая – он искал, но не находил слово. Такая умная, конечно. И грустная, очень, и без всяких иллюзий. Берётся голыми руками за электричество. Её грусть не была обычной грустью, такой, которая знакома и ему тоже, из-за поражения "Апоэля", допустим, или плохой отметки. Это была грусть совсем другого рода, как у стариков, которые уже всё знают о жизни. У Асафа тоже иногда бывали проблески такой грусти, но он не умел описать её словами и предпочитал даже не пытаться, потому что, если формулируешь что-то словами, это остаётся навсегда, как приговор тебе; но если бы Тамар была здесь, он говорил бы с ней без страха и попробовал бы, наконец, назвать это по имени, то, что подстерегает за тонким занавесом жизни, обыденности и семьи и даже за самым крепким маминым объятием. Он не любил эти мысли; они окутывали его иногда, когда сидел один в своей комнате или ночью, перед тем, как заснуть. Эта мысль охватывала его внезапно, случалось, что он падал, будто опускаясь прямо в разинутую пасть.
А Тамар – он чувствовал, что она говорит о тех же самых вещах. И что она единственный человек в мире, который так ясно и разумно сказал ему что-то об этих увёртливых и пугающих вещах. Он сидел, раскачиваясь и ударяя кулаками по коленям, раз за разом закрывая тетрадь и открывая снова, будто закрывая и открывая плотину, регулирующую поток, разливающийся в тетрадях и в нём, и, хотя ничего вокруг, в мире за зарослями кустов, не изменилось, Асаф был до ужаса потерян, паря в космическом пространстве, как одинокая человеческая крошка, отчаянно желая знать, что ещё одна человеческая крошка парит где-то там, в пустых просторах, и зовут её Тамар.