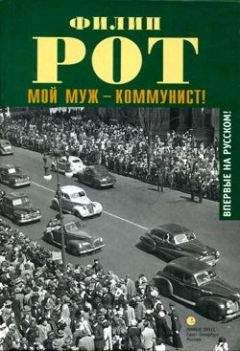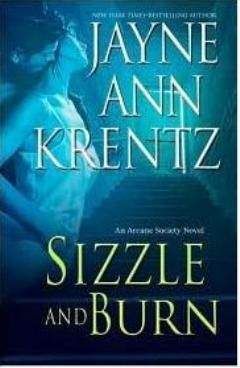И тут, как deus ex machinа,[29]появляется дама с золотым зубом. Которую сама же Эва и нашла. Услышала о ней от одного актера, который слышал о ней от одной танцовщицы. Массажистка. Лет, наверное, на десять, на двенадцать старше Айры, тетенька лет под пятьдесят. Несколько потрепанного, сумеречного вида знойная женщина на склоне лет; впрочем, работа держала ее в форме, не давала ее большому, теплому телу терять упругость. Хельги Пярн. Эстонка, муж которой, тоже эстонец, был заводским рабочим. Серьезная трудящаяся женщина, которая любит пропустить рюмочку водки, за деньги запросто раздвинет ноги, а при случае не преминет залезть клиенту в карман. Корпулентная, здоровая баба; когда она впервые появилась, у нее отсутствовал передний зуб. Приходит снова, зуб уже вставлен – золотой, подарок дантиста, которому делает массаж. Потом приходит в новом платье – подарок владельца швейной фабрики, которому опять-таки делает массаж. За год у нее появляется шуба, приличная бижутерия, часы, скоро она уже покупает акции и прочее и прочее. Хельги повышает уровень, Хельги движется вверх. Иногда над этим своим продвижением посмеивается. Вот так меня ценят, говорит она Айре. Когда Айра первый раз протянул ей деньги, она сказала: «Я не перу деньги. Я перу презенты». Он в ответ: «Ну, я же не пойду по магазинам. Вот. Купите себе, что захочется».
С нею он тоже проводил обязательные беседы о классовом самосознании, рассказывал про Маркса, о том, что Маркс велит трудящимся вроде Пярнов вырвать капитал из рук буржуазии и, установив контроль над средствами производства, самим стать правящим классом, но Хельги птица не той породы, чтобы клевать что попало. Она эстонка, а русские, как на грех, Эстонию оккупировали и превратили в Советскую республику, так что она антикоммунистка на подсознательном, рефлекторном уровне. Для нее существует одна земля обетованная – Соединенные Штаты Америки. Где еще могла бы иммигрантка, деревенская девушка без образования… и тыры-пыры в том же духе. Ее продвижение вверх забавляет Айру. Обычно юмора ему как раз недостает, но не в том, что касается Хельги. Кто знает, может, ему бы на ней следовало жениться. Может быть, в этой добродушной, разбитной массажистке, принимающей реальность такой, какая она есть, ему и надо было искать родственную душу. Такую же родственную, какой была ему когда-то Дона Джонс: душу в чем-то дикую и разгульную. Я бы даже сказал, душу заблудшую.
А он и впрямь ее меркантилизм находил пикантным. «Ну как, Хельги, удачная была неделя? Чем прибарахлились?» Она не усматривала в этом проституции, чего-то дурного или зазорного – она повышает свой уровень, это же хорошо? Воплощает свою американскую мечту. Америка – страна возможностей, клиенты ее ценят, должна же женщина зарабатывать на жизнь? И вот, трижды в неделю она после обеда заходила, одетая как медсестра: белый крахмальный халат, белые чулки, белые туфли. С собой приносила складной массажный стол. Устанавливала стол в его кабинете рядом с письменным, и, хотя Айра на целый фут был длиннее стола, он на него укладывался, и в течение целого часа она очень профессионально делала ему массаж. Которым давала Айре единственное реальное облегчение, снимала постоянные мучительные боли.
Затем, по-прежнему в белой униформе и не менее профессионально, под занавес она еще кое-что делала, от чего облегчение становилось уже совсем полным. Из его пениса исторгался великолепный мощный выплеск, в котором стены тюрьмы мгновенно растворялись. В этом выплеске была свобода, которую во всем остальном Айра утратил. Всю жизнь он только и боролся за то, чтобы осуществлять свои права – права человека, гражданские права, политические, и как-то все сошлось вдруг на том, чтобы этим купленным за деньги выплеском обдать золотой зуб пятидесятилетней эстонки, пока внизу, в гостиной, Эва услаждает слух звуками Сильфидиной арфы.
Не исключено, что Хельги была интересной женщиной, но ее пустота и ограниченность бросались в глаза. Языком она владела не бог весть как, и это, вкупе с тем, что в ее венах всегда струился тоненький водочный ручеечек, заключало ее в кокон некоторой туповатости. Эва даже прозвище ей придумала. «Мотыга». Так они ее всем семейством между собой и называли. Но Хельги Пярн была не мотыга. Пустоватая, может быть, но не дура. Хельги знала, что Эва смотрит на нее как на быдло. Эва не особенно это и скрывала – вот еще, расшаркиваться тут перед какой-то жалкой массажисткой, и жалкая массажистка ее за это ненавидела. Когда Хельги делала Айре минет, зная, что внизу, в гостиной, Эва внимает арфе, Хельги забавлялась тем, что изображала, как высокомерно и барственно должна, в ее представлении, держаться при этом Эва, если уж снизойдет до того, чтобы отсосать у мужа. За расплывчатой балтийской маской крылась натура непокорная и дерзкая – эта женщина знала, когда и чем отплатить той, что от нее воротит нос. А пропустив рюмашку, Хельги и вовсе отказывалась себя сдерживать. И когда она нанесла-таки Эве удар, рикошетом он все вокруг разнес вдребезги.
– Отмщение – ого!.. – задумчиво проговорил Марри. – На свете нет ничего огромнее и ничего ничтожнее; ничто не пробуждает даже в самых заурядных из людей такую творческую активность, как жажда мщения. И даже высокородная рафинированная дама станет неимоверно изобретательным палачом, когда в ней бродит неотмщенное предательство.
Этой своей тирадой он одним махом перенес меня в школьный кабинет литературы: конец урока, учитель кратко резюмирует пройденное, подводит черту, мистер Рингольд собран, внимателен, сжато проговаривает тезисы, некоторые как бы усиливает голосом, – и этим, и четкостью формулировок намекая, что «месть и предательство» вполне может оказаться разгадкой одной из наших с ним еженедельных игр в «Двадцать вопросов».
– В армии мне, помнится, попалась книга Бёртона «Анатомия меланхолии». В Англии, пока нас там готовили к десанту в Нормандию, я читал ее каждый вечер – я тогда впервые в жизни узнал о ней. Я был в восторге, Натан, но кое-чего в ней не понял. Ты помнишь, что Бёртон говорит о печали? Каждый из нас, пишет он, предрасположен к печали, но лишь у некоторых она входит в привычку. Откуда эта привычка берется? На этот вопрос Бёртон не отвечает. Нет в его книге ответа, и все тут, так что мне пришлось самому над этим ломать голову чуть не до конца войны, пока я наконец не понял на собственном опыте.
Эту привычку приобретает тот, кого много предавали. Предательство – в нем все дело. Взять хотя бы знаменитые трагедии. Отчего там появляется печаль, вплоть до отчаяния, до бреда, до убийства? Отелло – предали. Гамлета – предали. Лира – предали. Можно представить дело даже и так, что Макбета предали – он сам себя предал, хотя это не одно и то же. Профессионалы, жизнь положившие на изучение шедевров, те немногие из нас, кто по-настоящему увлечен тем, как литература препарирует жизнь, вынуждены признать, что в самом сердце истории лежит измена и предательство. Одна Библия чего стоит. О чем эта книга? Ситуационная основа любого библейского сюжета – предательство. Адама – предали. Исава – предали. Самарян – предали. Иуду – предали. Иосифа – предали. Моисея – предали. Самсона – предали. Самуила – предали. Давида – предали. Урию – предали. Иова – предали. И кто же Иова предал? Да никто иной, как сам Господь Бог! И не забудь, что Бога тоже предавали. О, еще как предавали! Наши предки предавали его на каждом шагу.
В середине августа 1950 года, перед тем как, поступив в Чикагский университет, покинуть дом (как оказалось, навсегда), я съездил на поезде в Сассекс к Айре, чтобы провести с ним недельку на природе – как в предыдущий год, когда Эва с Сильфидой были во Франции в гостях у отца Сильфиды, а мой отец, прежде чем дать свое родительское соизволение, учинил Айре целый допрос. В то второе лето я сошел с поезда под вечер на маленькой сельской станции, где Айра уже ждал меня в своем двухдверном дачном «шевроле». До его хижины предстояло еще пять миль ехать узкими извилистыми проселками через луга, мимо коровьих стад.
Рядом с ним на переднем сиденье была женщина в белом форменном платье, он представил ее как миссис Пярн. Она в тот день приехала из Нью-Йорка подлечить Айре шею и плечи и следующим поездом возвращалась. При ней был складной стол; помню, как она пошла и сама вынула его из багажника. Это мне запомнилось – ее сила, то, как она легко поднимала стол, а еще ее белое форменное платье, белые чулки и что она называла его «мистер Рин», а он ее «миссис Пярн». Кроме ее силы, я больше ничего особенного в ней не заметил. Я ее вообще едва замечал. Она вылезла из машины и, нагруженная столом, пошла через пути туда, где останавливался местный «подкидыш», на котором ей предстояло сперва доехать до Ньюарка, и больше я ее никогда не видел. Мне было семнадцать. Она показалась мне старой, чопорной и малоинтересной.