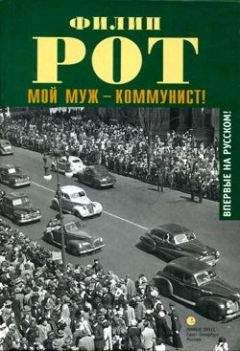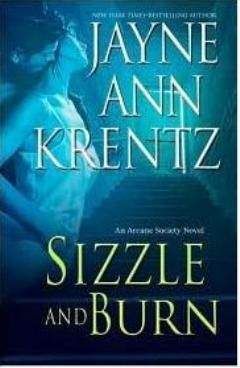От всего этого у меня уже уши вяли, а он все бубнил и бубнил – точно в тех же выражениях, много раз, так что к концу недели я томился, только и ждал, когда можно будет слинять домой. В этот раз житье у него в хижине понравилось мне куда меньше, чем прошлым летом. О том, каким он себя чувствовал затравленным, как переживал фальшь своей якобы дерзкой, якобы независимой позиции, я не имел ни малейшего понятия – все еще воображал, что мой герой вот-вот возглавит и выиграет радиобой с реакционерами из «Красных щупальцев», и не мог понять, как одолевали его страх и отчаяние, как нарастало в нем чувство безнадежности и одиночества, то есть все то, что он изливал в этих возмущенных монологах праведника. «Зачем я делаю в политике то, что я делаю? Я это делаю потому, что считаю это правильным. Приходится что-то делать, потому что это надо сделать. И если я единственный, кто это понимает, тогда и черт с ними со всеми. Меня корежит, Натан, просто корежит от трусости былых соратников…»
Предыдущим летом, несмотря на то что я был еще слишком юн, чтобы получить права, Айра научил меня водить машину. Когда мне исполнилось семнадцать и отец собрался наконец поучить меня, я чувствовал: если признаюсь, что на этом поприще его обошел Айра Рингольд, он обидится, поэтому с отцом я притворялся, будто ничего не знаю и не умею, будто вообще я за баранкой первый раз. На даче у Айры был черный двухдверный «шевроле-купе» тридцать девятого года выпуска, и выглядел автомобиль еще вполне прилично. Айра, с его огромным ростом, за рулем смотрелся странно – прямо какой-то цирк на колесах, а в то наше второе лето, когда он ездил со мной на пассажирском месте, мне казалось, что я вожу с собой изваяние, монумент, символизирующий дикую ярость по поводу Корейской войны, воинский памятник, воздвигнутый на месте сражения против сражений.
До Айры машина принадлежала какой-то бабульке, поэтому, когда в сорок восьмом году он ее купил, на одометре было всего двенадцать тысяч миль. Коробка трехступенчатая, рычаг переключения передач в полу, включение заднего хода – влево и вперед. Спереди два отдельных кресла, а за ними место, куда еле-еле мог втиснуться, например, ребенок. Ни радио, ни печки. Чтобы открыть воздухозаборники вентиляции, следовало повернуть рычажок вниз, и перед лобовым стеклом приподнимались два прямоугольных щитка с сетками от насекомых. Безотказное устройство. От сквозняков в окнах уплотнители, и каждый стеклоподъемник со своей ручкой. Чехлы сидений из той мышино-серой ворсистой ткани, без которой ни одно авто в те дни не обходилось. Широкие подножки – ну а как же! Большой багажник. Запаска и домкрат в багажнике под настилом. Передняя декоративная решетка как бы заостренная, а на капоте фирменный значок со стеклышком. И уж крылья так крылья – большие, округлые; и отдельно стоящие фары, как две торпеды, смещенные чуть-чуть назад от обтекаемой решетки. Привод стеклоочистителей вакуумный, поэтому, когда нажмешь на газ, «дворники» замирают.
Вот, еще вспомнил: пепельница. В самом центре приборной доски между пассажиром и водителем изящная пластмассовая коробочка с шарниром на донце, чтобы ее можно было раскрыть, а потом снова убрать. Чтобы добраться до двигателя, достаточно было просто откинуть защелку снаружи. Замок капота не предусматривался, так что любой вандал мог расправиться с мотором в две секунды. Левая и правая стороны капота открывались независимо. Покрытие рулевого колеса было не гладким и блестящим, а шершавым, и кнопка гудка только в центре. Стартер включался маленькой круглой педалькой, накрытой гофрированным резиновым колпачком. Ручка «подсоса», то есть привода воздушной заслонки, находилась справа – ее надо было вытянуть на себя, чтобы завестись в холодную погоду, и была еще одна, под названием «дроссель» – слева. Зачем был нужен этот дроссель, ума не приложу. На крышке «бардачка» притопленные механические часы, которые надо было заводить. Горловина бензобака торчала прямо в боку, позади пассажирской дверцы, и закрывалась винтовой крышкой. Чтобы запереть машину, надо было нажать на кнопку под водительским окном, а выйдя, поворотную ручку опустить вниз и захлопнуть дверцу. Так что, если ты о чем-то задумался, можно было ненароком запереть ключ в машине.
Об этой машине я мог бы рассказывать бесконечно, потому что именно в ней я впервые трахался. В тот второй мой приезд к Айре я познакомился с дочкой начальника цинк-таунской полиции, и однажды вечером, договорившись с ней встретиться, позаимствовал у Айры машину и повез ее в кино типа «драйв-ин» – заведение, где смотрят фильм, не выходя из машины. Девчонку звали Салли Сприн. Рыженькая, года на два старше меня, она работала в сельском универмаге и среди местных была известна своей «доступностью». Мы маханули с нею вон из Нью-Джерси, пересекли реку Делавэр и уже в Пенсильвании заехали в «драйв-ин». Киношные динамики в те дни не орали на всю округу: их вешали на окна машины каждому персонально, а смотрели мы какую-то комедию с Абботтом и Костелло. Довольно вульгарную. С ходу принялись обжиматься. Она и впрямь оказалась доступной. Самое пикантное (если считать, что только часть происходящего была пикантной) – это когда трусы обмотались у меня вокруг левой щиколотки. Нога была при этом на педали акселератора, и в запарке я устроил в цилиндрах потоп. К тому времени, когда я кончил, трусы каким-то образом навернулись еще и на педаль тормоза. Костелло кричит: «Эй, Абботт! Эй, Абботт!», окна запотели, двигатель не завести, ее отец – начальник цинк-таунской полиции, а я еще и за ногу к полу привязан.
Отвозя девицу домой, я пребывал в задумчивости: не знал, что теперь говорить, что чувствовать и какая меня ожидает кара за то, что, имея целью совершить половое сношение, я перевез ее через границу штата. Потом я вдруг поймал себя на том, что объясняю, как это неправильно, что американские солдаты воюют в Корее. И уж про генерала Макартура все ей высказал, словно это он ее отец.
Вошел в хижину; Айра оторвал взгляд от книги, которую читал, и говорит:
– Ну и как она?
Я не знал, как на такой вопрос положено отвечать. Смотреть на произошедшее в таком разрезе мне даже в голову не приходило.
– Так ведь – мне ж было все равно с кем… – оторопело проговорил я, и оба мы расхохотались.
Наутро обнаружилось, что, выйдя из машины наконец-то уже не мальчиком, вне себя от восторга я хлопнул дверцей и запер ключ внутри. Узнав об этом, Айра снова хохотал, но больше за всю неделю, что я пребывал у него в хижине, развеселить его мне не удалось ни разу.
Иногда Айра приглашал на обед соседа, Реймонда Швеца. Рей был холостяк, жил милях в двух дальше по дороге, у края брошенного карьера – огромной, доисторического вида ямы, этакой рукотворной жутковатой бездны, вид пустоты в которой, ломаными уступами уходящей чуть не в преисподнюю, даже при свете дня вызывал у меня мурашки. Рей жил один в однокомнатном строении, которое когда-то, десятки лет назад, служило складом рудничного оборудования и в качестве жилища имело довольно жалкий вид. Во время войны он был в Германии военнопленным и вернулся с тем, что Айра именовал психической травмой. А через год, вновь приступив к работе бурильщика в цинковой шахте – в той самой, где Айра мальчишкой сам вкалывал с лопатой, – он попал под обвал и получил еще и травму черепа. В четырехстах пятидесяти метрах под землей потолочный каменный выступ размером с хороший гроб в полтонны весом грохнулся у стены, которую он бурил, и раздавить не раздавил, но здорово приложил мордой об пол. Рей выжил, но под землю больше не спускался, и врачи с тех пор не раз ремонтировали ему череп. Рей был мастером на все руки, и Айра иногда давал ему подработать: Рей полол у него в огороде сорняки, поливал в его отсутствие грядки, делал в доме ремонт, красил и тому подобное. Бывало, много недель подряд Айра давал ему деньги за просто так, а когда видел, что Рей плохо питается, приглашал его и кормил. Говорил Рей очень мало и редко. Покладистый и всегда какой-то полусонный, он вежливо кивал головой, которая, говорят, мало походила на ту, что была у него до несчастного случая… и, кстати, даже когда за обедом с нами был Рей, Айра без умолку громил и громил наших врагов.
Этого следовало ожидать. И я ожидал этого. Можно даже сказать, предвкушал. А ведь казалось, никогда не надоест, все будет мало. Ан нет, насытился. На следующей неделе предстояло идти в колледж, обучение у Айры закончилось. Вдруг внезапно, с невероятной скоростью все завершилось. Это как и с невинностью. В хижину на Пикакс-Хилл-роуд я вошел одним человеком, а выходил другим. Как бы ни называлась та новая, непрошенно вырвавшаяся на поверхность движущая сила, она вдруг сама собой обозначилась и была непреоборима. Когда-то мое увлечение Айрой привело к тому, что сыновние чувства во мне ослабли, и я отдалился от отца, а теперь это же повторялось с ним – я в нем все более разочаровывался.