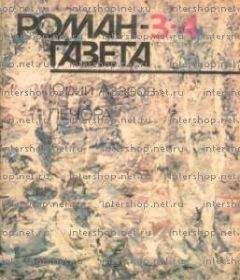— В каком году это было?
— Начало шестнадцатого столетия. Примерно за сто лет до Иннокентия Десятого…
Мы проговорили с капитаном еще часа два, пока я снова не продрог. Дома я снова думал о капитане, о Блодове, о Морозовой. И о чем бы я ни думал, в памяти возникал портрет Иннокентия X работы Ве-ласкеса. Почему-то и Борджиа, и Никон, и Юлий II мне показались похожими на Иннокентия X.
Не выходило из памяти и жесткое лицо капитана. Точь-в-точь взгляд Иннокентия. Ничего себе, меня решил обвинить в убийстве. Так иуснул я с горькими мыслями о будущих подозрениях.
…Я подошел к бараку, где жили Нина и Алина. Постучал в дверь, обитую дерматином, из-под которого торчали комки старой ваты.
— Дверь быстрее закрывай, — сказал мне Иннокентий Десятый, заматываясь в алую мантию и поправляя багровую шапочку на голове, — Закрывай, а то надует.
Я юркнул в комнату в надежде встретиться со знакомой обстановкой. Ничего знакомого в комнате не было.
— Обожди, — сказал римский папа, усаживаясь в красное кресло и поправляя пунцовый занавес. — Дай-ка мне расположиться в соответствии с исторической правдой. Итак, начнем. Инквизиция!
В комнату вбежали два человека в черных халатах с капюшонами, держа на привязи псов. В собаках я узнал Франца и Копегу. Монахи привязали меня к шкафу. Веревки были новые и жестко врезались в тело.
— Я, папа Иннокентий Десятый, объявляю вас арестованным. Вы обвиняетесь в убийстве боярыни Морозовой, ее однофамилицы, девицы Морозовой, ее жениха Вершина и двух учеников, сожженных в срубе на болоте вместе с еретиком протопопом Аввакумом.
Багровое лицо папы было точно искусано комарами: в пятнах и подтеках. Голубые глаза глядели подозрительно и зло.
— Вы признаете себя виновным?
Я молчал: что-то перехватило в горле. Даже если бы я пожелал что-либо сказать, все равно звука не получилось. Обе мои руки были задраны кверху, а в спину врезался ключ от шкафа.
— Ключ, — едва слышно прошептал я.
— О чем он? — спросил Иннокентий. Он сидел, сохраняя сходство с портретом Веласкеса, даже руки небрежно свисали с подлокотников кресла. — Так о чем он шепчет?
— Не по делу, — ответили инквизиторы.
— Значит, не признаете себя виновным? — повторил папа, пряча ехидную улыбку в растянутых широких губах, точно наклеенных на огромный плоский подбородок.
— Нет, — ответил я, стыдясь того, что крупные слезы скатывались из глаз, и не было сил стряхнуть их.
— Позвать свидетелей, — приказал Иннокентий X.
В комнату вошли Алина с Ниной.
— Вот уж с кем не хотелось бы мне встречаться, так с этим идиотом, — сказала Алина, точно в комнате и не было ни инквизиторов, ни папы Иннокентия X.
— Алина, — с укоризною проговорила Нина, снимая пальто и оставаясь в нижней рубашке.
— Сколько вам платят за вашу службу? — спросила Алина.
— Какую службу? — оскорбился я.
— Вы еще и пытаетесь что-то скрыть? А это что? Прочитайте.
Один из инквизиторов поднес к моему носу бумагу.
«Может быть, протопоп Аввакум был одним из первых русских интеллигентов, — читал я весьма знакомый мне текст. — Это был настоящий писатель и гражданин. Красавица Морозова полюбила его, когда увидела сноп света, идущий с неба и сливающийся с его аурой. Однажды Аввакум сказал псарям царя Алексея Михайловича, травившим собаками человека: «За что вы его травите?» «В его глазах мелькнул свет», — ответили псари».
Я прервал чтение. Я хотел сказать, что это мои записки к сценарию. Но мне приказали:
— Читай дальше.
— «Было бы неверно рассматривать Аввакума как фанатика. Его деятельность или даже то, что называют фанатизмом, есть вид бескомпромиссной духовной самостоятельности. И вот загадка: почему же церковь не причислила ни Аввакума, ни его ученицу Морозову к лику святых?»
— Разве это не донос? — спросила Алина. — Это же донос! И не притворяйтесь! Вы сгубили Аввакума.
Нина подошла к. шкафу, чтобы открыть дверь и убрать ключ, впившийся в мое тело.
— Не положено, — сказал инквизитор.
— Мне нужно в шкафу взять свои вещи.
— Не положено, — повторил инквизитор.
— Пригласите местком, — сказал римский папа. Вбежал, будто запыхавшись, Чаркин.
— Клеветник, — сказал Чаркин. — Мы обсуждали этот вопрос на производственном совещании. Склонен к наговорам. Клевета сама из него выливается. Пресвитер Новиков до сих пор не может отмыться, ходит с той лоханью, в которую погрузил его клеветник.
— Ясно, — прошамкал Иннокентий X. — В отличие от всех моих предшествующих девяти Иннокентиев я обладаю обстоятельностью и не терплю спешки. И время, конечно, нынче не то, чтобы торопиться. После гибели «Непобедимой Армады» все пошло под закат. Нельзя без разбирательств швырнуть человека в костер. Нынче не то чтобы торопиться, а, напротив, нужно в промедленности усладу находить. Посмотри на этих инквизиторов. Спят. Ну, что там еще у нас? Эй! Проснитесь! Кто на очереди?
— Интеллигенция, — ответили инквизиторы.
— Ах филеры, — сказал Иннокентий X. — Ну давай их сюда!
Вошел в коричневой безрукавке Бреттер, с ним рядом в бальном платье с вырезом и с алой розой. Екатерина Ивановна, а уж после Рубинский с Больновой.
— Ну, что скажете, господа? — вопросил Иннокентий X. — От меня скрываться незачем. И хитрить ни к чему. Вы с ним уж больше не встретитесь. Можно все начистоту.
— Вы ведете себя несколько странно, — сказал Бреттер, обращаясь к папе. — Не в соответствии с теми манерами, какие были свойственны столь тонкому человеку, каким был настоящий папа римский времен Веласкеса.
— Я веду себя в соответствии с обстановкой, — ответил Иннокентий X. — Впрочем, преклоняюсь перед зоркостью профессионального организатора массовых, предательств.
— Зачем же так во всеуслышание?
— А он уже не жилец, — махнул папа в мою сторону.
— Все равно не принято говорить вслух. Растут дети.
— Послушайте, Бреттер, — прервал собеседника Иннокентий X, — вы западник или язычник?
— Если говорить начистоту, то я никто: ни западник, ни язычник. Я против процессов, вредящих достоинству трона. Всегда презирал чернь, выступающую против августейших имен.
— Вот уж не думал, что вы тоже из этой компании, — проронил Рубинский, обращаясь к Бреттеру.
Бреттер не удостоил своего единомышленника вниманием.
— Что с вами?. — бледнея, спросил Бреттер у Иннокентия X.
— Жмут! Ох как жмут, сволочи!
— Кто жмет? — вскинулись инквизиторы. — Янсенисты? Быть этого не может. Прикончили вчера главную партию. Две новых партии сегодня ночью взяли: сидят, ждут приговоров…
— Сапоги жмут! — проскрипел Иннокентий X. — Ну-ка, помоги снять!
Бреттер кинулся к ногам папы.
— Да не ты, иуда, — сказал папа. — Отроку дай припасть к ногам моим. Ну что стоишь, как Кальвин?
Рубинский ухватился за сапог, но тут же был отброшен папой.
— Сырость, — сказал папа. — Сыростью несет от твоих мокрых фаланг. Вишь, следы оставил на голенище. Позвать лжесвидетелей.
— Они перед вами, ваше преосвященство, — сказал инквизитор, показывая на Бреттера и Рубинского.
— Это тайные свидетели, — проговорил папа. — Сколько раз я просил не путать тайное с явным. Я говорю позвать лжесвидетелей настоящих.
— А как с книжником быть? Он стоит под дверью. Всю стенку плечом обтер. Так и зияет пятно на стене. Он и за лжесвидетеля может сойти. Любые показания дает.
— Зови книжника, — сказал папа. Вошел в золотых очках Тарабрин. Вошел, озираясь, держа под мышкой скоросшиватель.
— Ну, что у тебя? — спросил папа.
— Вот, — протянул Тарабрин бумагу.
— Читай, — приказал Иннокентий X.
— «Объект номер триста пять, поименованный ранее учителем с малой буквы, стал активно устанавливать связи с местной интеллигенцией» — начал читать бумагу Тарабрин.
— Непорядок, с представления надо начинать!
— Я, Тарабрин Сергей Борисович, праправнук Кузьмы Лашеза.
— Короче, — перебил его Иннокентий X.
— Я, источник достоверных сведений номер двадцать три тысячи пятьсот восемь, был запрограммирован на проверку связей между двумя источниками номер тридцать шесть тысяч дробь семнадцать и номером сорок восемь тысяч дробь шесть. Оба источника вышли на связь с объектом номер триста пять. И вели себя в соответствии с инструкциями. Объект триста пять явно интересуется космогоническими перемычками, соединяющими известное с малоизвестным. Вслух осуждал папу, включая трактовку «ошибок Мадрида», доказывал при этом необходимость окончания Тридцатилетней войны, утверждал, что человек должен сам определять свою судьбу.
— Эк куда его понесло! — произнес папа голосом Ивана Варфоломеевича. — Дальше.
— Дальше неразборчиво, — ответил Тарабрин. — «Объект триста пять против ренессансной самореализации личности, он за счастье, которое других делает счастливыми».