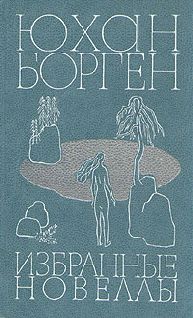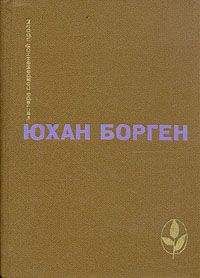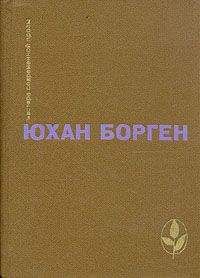- На самом деле... - сказал Роберт Ангелл (боже мой, придется теперь думать о нем в двух разных планах - Ангелл и Роберт). - Но давайте сядем. На самом деле мы никогда не встречались. Поводом для моего письма послужило ваше несправедливое ко мне отношение - вы, видимо, недооценивали меня, вы просто даже унижали меня. Надеюсь, вы меня понимаете? Вы смотрите на все вашими глазами, с вашей писательской фантазией - извольте, в этом нет ничего предосудительного. Но ведь и я хочу высказаться. Я, да и вообще кто-либо другой, могу высказать по поводу творчества, ну да, художественного... Я заметил, что слово "художественный" вы употребляете в кавычках. А с другой стороны, это художественное...
Может быть, мне показалось, но он как будто заставил меня взглянуть на очень хорошую репродукцию Брака, висевшую над письменным столом.
Во всяком случае, наши взгляды встретились на этой картине периода раннего кубизма, когда ни за что не угадаешь, Брак это или Пикассо.
- Если исходить из того, что художественная точка отсчета - самое главное, не думайте, пожалуйста, что я придаю большое значение так называемой реальности, но даже если художественный импульс - самое главное, то все-таки критерий истины существует, не так ли? Долг - или как вы там это называете - перед тем, что принято считать абсолютным, или, во всяком случае, очевидным, или, уж во всяком случае, привычным, как вы считаете?
Он осушил бокал. Он был не из тех, кто сидит и вертит в руках бокал. (Точно, совершенно точно!) Он отставил бокал на старомодный салонный столик, словно поставил точку.
Меня осенило, что все, что он говорил, как бы спрашивая, завершилось точкой, что он сидел и диктовал мне то одно, то другое - навязывал мне какую-то роль. Мой бокал вдруг стал смехотворным реквизитом в моей руке, реквизитом, который сделал меня нереальным в этой ситуации, нереальным в общении с человеком, которого я, несомненно, выдумал.
- Простите, - сказал я, чтобы выиграть время, - но вам не кажется странным... - Да, собственно говоря, ничего странного не было в этой ситуации, просто двое солидных мужчин пытаются, не очень настойчиво, выяснить свои не очень сложные отношения.
- Вы в свою очередь пытаетесь - и вам это во многом удается, - едва заметный кивок, и опять ирония, - "создать", и на этот раз уже точно в кавычках, образ, мой образ. С юности, или почти с юности, писатели, по-моему, обычно кокетничают, будто они не помнят, что они писали несколько лет назад - я думаю об одном эпизоде, где этот Роберт, как вы его обычно называете, разоблачен между строк, выдает себя, что называется.
Вам не откажешь, вам успешно удается представить его этаким бессмертным шарлатаном; если вы помните, он впервые возникает как владелец или управляющий загородной гостиницей или примитивным пансионатом среди гор и долин. Да, эта затея не очень удалась, но все-таки гостиница послужила временным приютом для группы молодых людей богемного типа. Да, это было в извращенные тридцатые годы, годы "великой депрессии". У вас была идея: вытащить героя из безнадежных двадцатых годов и поместить его в декадентские тридцатые, навязать ему роль легкомысленного самаритянина, этакая смесь манны небесной и жареных перепелов, неустойчивый, предприимчивый, ловкий, обаятельный друг своих друзей, пока они есть, общительный, благотворитель, но без далеко идущих планов, да и вообще без царя в голове.
Он сделал паузу. Видно, она была хорошо рассчитана. Я знал, что, если бы перебил его, он моментально остановил бы меня.
- Многое во мне вы описали довольно верно, я могу даже польстить вам, ведь я кое-чему научился, многое узнал о себе самом, и все-таки вы ошибались, вернее, вы заблуждались, и настолько, что исказили меня до неузнаваемости. Я этого опасался уже тогда, в самом начале, когда все слишком совпадало, я имею в виду, что я слишком соответствовал моему собственному представлению о себе самом. А оно, конечно, было ошибочным. Я думаю, вернее, я рискую вам сказать, что мы - вы и я - были слишком похожи в чем-то главном - способность к самооправданию, стремление к эскапизму, - но вы все это знаете, ведь вы профессионал по части лжи и выдумок - или, как это называется, художественного вымысла. Только, пожалуйста, не думайте, что я переоцениваю то, что обычно называют реальностью по контрасту с вашим искусством - и на этот раз уже без кавычек; если я не испытываю уважения к вашей профессии, то, во всяком случае, в какой-то степени восхищаюсь ею. - И еще раз ему удалось заставить меня перевести взгляд на великолепные книжные полки, которые - я не мог не заметить сразу, как только вошел в гостиную, были подобраны не из соображений ложного престижа. - Но все-таки с самого начала была какая-то ошибка, какая-то ложь, смею вам заметить, в отношениях между читателем и писателем, в их так называемом взаимодействии, диалоге (как сейчас принято говорить), есть момент насилия по отношению к очень увлеченному читателю. Эффектные приемы, гипнотизирующие читателя. Все эти пресловутые "живые" персонажи, как пишут в рецензиях, выдуманы для того, чтобы их узнавали читатели с ограниченным кругозором. Итак, процесс воссоздания, даже процесс создания... не будем об этом пока. И все-таки насилие. Похожее на дуэль, когда один из соперников вооружен, а другой нет. Я даже не имею в виду героев, персонажей, вовлеченных в действие, я говорю просто о насилии по отношению к читателю, это как немая драка, исход которой известен наперед. Вот и вся ваша литература; господи, я утомил вас, простите меня, я не буду говорить вообще, а именно о нашем с вами случае.
Он потянулся через стол. Я разглядел голубые напрягшиеся вены на висках, худые выразительные руки с длинными тонкими пальцами, как у фокусника. Я расслабился, пододвинул к нему бокал. Чисто автоматический жест - и он так же автоматически уверенными движениями смешал водку с вермутом и налил мне.
- Теперь можете высказаться вы, - произнес он с той многозначительной улыбкой, которой, я помню, я наделил его в какой-то книге. - Я только хочу подготовить вас к нашему предстоящему разговору и, кто знает, к нашей совместной жизни, которая, может быть, неизбежна.
Он откинулся на спинку кресла, закурил, но не предложил мне. И повторил:
- Которая, может быть, неизбежна.
"Неизбежна"? Я перехватил его взгляд, он не дрогнул, наоборот заставил меня посмотреть на копию Эстева, которая в то время была довольно популярна. Все было слишком похоже на розыгрыш. Мне хотелось покончить с этой комедией.
Я сказал:
- Не пора ли нам поднять занавес, чтобы как можно скорее опустить его?
- Вот именно. Пора садиться за стол.
Он встал. Портьеры раздвинулись.
Был ли сюрприз задуман? Хорошо накрытый стол многое может значить. На маленьком сервировочном столе рядом с хозяином стояло зеленое блюдо с красными омарами. В центре стола оно выглядело бы чересчур кричаще. Там же очень кстати лежал пучок свежего сельдерея. Все это было освещено ярким светом люстры пирамидальной формы - такие обычно бывают в ресторанах-грилях, где освещение усиливает цвета поданных блюд. Стол был накрыт светло-голубой скатертью, никаких там рисунков, птичек и рыбок, ничего, что подчеркивало бы, что стол накрыт именно к обеду, и, я не верил своим глазам, никаких свечей.
Конечно, все было продумано. Действительно хорошо накрытый стол, вполне уместный для наших благородных порывов. Он следил за мной и не скрывал этого. Я в свою очередь признал его победителем и непринужденно сказал:
- Великолепно!
Наигранное равнодушие могло бы все испортить. Он, видимо, отметил это про себя, как игрок, который в покере по лицу партнера угадывает его карты. С другой стороны, слово "великолепно" можно произнести с такой интонацией, которая на языке театра называется антирепликой. И я заметил, что от его внимания не ускользнуло мое сдержанное великодушие в поединке как раз в тот миг, когда он закрылся от меня. Он как бы выиграл эту ставку и произнес с наигранной откровенностью:
- Я старался. Вы когда-то описали именно такой стол - впрочем, давайте есть.
Стол был накрыт на троих. Нас разделял еще один прибор. Я понял сразу: он знает, что я не буду спрашивать. Еще одна черта: не отвечать на вопросы, которые не были заданы. Он аккуратно разлил водку из запотевшей бутылки, разлил вращая, чтобы не пролить ни капли.
- В одной из книг вы угадали: когда-то я был кельнером, но не будем об этом, пока давайте есть. Потом, если позволите, я расскажу о себе, о том, каким вы, возможно, меня себе представляли, каким вы меня знали. Вас это утомит, даже, может быть, раздосадует, но сейчас - мой выход. Вы ведь выходили на сцену тридцать с лишним лет, и, я думаю, будет справедливо, если сегодня вечером на сцену выйду я. Что ж, я рад вам, ваше здоровье! Чем это для нас кончится, вернее, для меня, - посмотрим. Может статься, вы измените свое мнение обо мне, откажетесь от случайностей и нелепиц, вы ведь играли вслепую. Это будет гораздо лучше для меня, а может, и для вас. Вы описывали значительных героев, а где-то в тени, в глубине сцены мелькал я - Роберт Ангелл. Впрочем, ваша совесть может быть чиста. Вот вы писали: "У Роберта не все клеилось в жизни". Что ж, подождем немного с обедом; он и так долго ждал. И даже сейчас, когда я протягиваю вам это блюдо с омарами, я вижу: вы опять замкнулись в ваших вечных скобках, потому что вас кольнула фраза "У Роберта не все клеилось в жизни", ведь это профессиональный штамп, и не уходите в себя, и не пытайтесь ускользнуть, ведь уже сам по себе накрытый стол сразу вызывает у вас ассоциации - может быть, что-то связанное с кафе, и уж во всяком случае... Позвольте, пусть омары будут просто омарами...