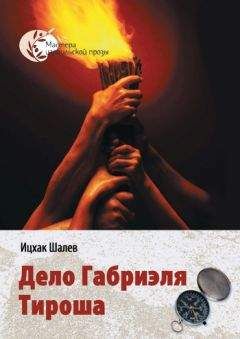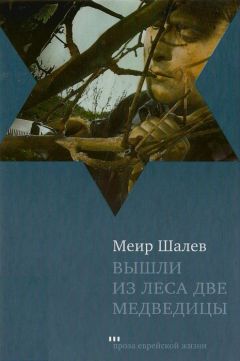Вне сомнения, Дан, ты бы высмеял меня, услышав это похвальное слово твоему «Нортону» (не новому, но в хорошем состоянии), который ты купил на заработанные тобой деньги после восьмого класса гимназии. Высмеял бы любое эмоциональное замечание, исходящее из моих уст. Когда мы были вместе, я полагал, что ты недолюбливаешь меня. А в последующие дни жизни даже думал, что ты меня и не помнишь.
Пока я не встретил господина Гурвица и увидел седого, разбитого еврея, как отцы всех тех, кто пал в бою. Он остановился, устремил в меня дрожащий взгляд и попросил посетить его в Бейт-Акереме «по важному делу». И там старик вручает мне старый блокнот и при этом бормочет: «Это он велел передать тебе, если не вернется. Он не вернулся, и я отдаю его тебе». И в этом блокноте я нахожу строфы и строки Черниховского, Шнеура и Ури Цви Гринберга. А на первой странице написано: «Мои любимые фрагменты».
В течение долгих последующих лет я не раз удивлялся смыслу времени. Иногда оно выглядело, как нечто вырастающее во мне, чтобы увянуть, как моя кожа, и поредеть, как мой волос. Иногда же оно вставало вне меня, как некая неизменная мощь, и наблюдало за изменениями во мне в безмолвии, которое, по сути, – печаль. Иногда мне удавалось засечь его песчинки, медленно текущие в песочных часах, а иногда я слышал размытые удары его колокола, как удары молотом того великана, который возникает знаком кинокомпании в первых кадрах ее фильмов.
Такими ударами колокола были некоторые события, которые внезапным своим явлением открывали смысл времени. Такой удар колокола я услышал, прочитав в газете о смерти доктора Розенблюма, а затем о смерти господина Дгани и Карфагена. Замужество госпожи Нади Фельдман вновь подняло молот в руках великана, и вновь тяжелая дрожь сотрясла колокол. Между этими событиями время исчезало из моего взора, пока вновь не вздымалось молотом. Все чаще оно глядело на меня новациями, что возникали в мире, приносящими боль своим появлением, или старыми уже позабытыми и неузнаваемыми делами, которые тоже отзывались во мне болью. Я чувствовал его присутствие, глядя на объявление о продаже дома господина Гурвица в Бейт-Акереме, и видел время, вглядывающееся в меня, когда решил посетить Шульманов и Розенблитов. Я увидел чужих людей, которые ответили на мой вопрос одним словом на идиш:
«Гешторбен!» («Умерли»).
«Все?» – спросил я, остолбенев.
Оказалось, что жива лишь Лея Розенблит. Я нашел ее, совсем старуху, в конце двора, в маленькой коморке, которая раньше служила складом. Узнал ее с трудом. Она долго всматривалась в меня, но так и не узнала и не поняла, что я ей говорю. Погладил ее сморщенную руку и постарался ей улыбнуться.
С балкона квартиры Габриэля два ешиботника в ермолках смотрели на меня с любопытством. Я поспешил оттуда убраться.
И снова взирали на меня глаза времени, когда начали строить на крыше гимназии второй этаж.
В первые годы после исчезновения Габриэля, иногда звонил мне доктор Хайнрих.
«Есть ли какая-то весточка от Габи?»
«Нет».
«Господи, Боже мой!» – тяжело ронял он.
Через несколько лет звонки от него прекратились. И вот я провожаю его на кладбище. Выступали на его могиле врачи, собралась масса народа.
«Он был мастерским хирургом», – сказал один из них.
Я знал это.
Еще раз услышал я его имя, когда начал работать секретарем в офисе медицинского учреждения в Иерусалиме. Привезли однажды больного в тяжелейшем состоянии, и кто-то сказал:
«Только доктор Хайнрих мог бы его спасти».
«Да», – подтвердил я.
В этот миг я почувствовал запах хлороформа, смешанного с запахом водорослей, который пришел памятью из квартиры Габриэля.
Запах же одеколона после бритья ударял мне в нос вспышкой памяти, околдовывающей на миг и тут же исчезающей. И не только запах втягивал меня в некие миражи прошлого. Иногда это был обман зрения. Я шел по улице и видел Габриэля, идущего передо мной в нескольких шагах. Он выглядел худым. Шаги его были широки, как тогда, первый раз, на Монфоре. Я ускорял шаг, огибал его, чтобы вновь разочароваться. Это был другой человек. Однажды один из них даже обратился ко мне:
«Да, господин?»
«Извините, я принял вас за другого».
Это явное сумасшествие связано было и с другим поиском. Время от времени я обнаруживал себя стоящим у остановки автобуса «Эгед» и следящим за потоком людей, выходящих из междугородних автобусов. То же происходило порой с вокзалом, где я следил за пассажирами. Я помнил, как Габриэль любил ездить на поезде. И вот, я все надеялся, что он объявится среди выходящих из вагонов людей. Однажды, зимней ночью, которой нет в календаре, в час, которому нет имени, я стоял на перроне с ясным чувством, что этот раз меня не разочарует. Лил проливной дождь.
Фары приближающегося паровоза освещали рельсы, словно бы превращая их в две жилы, истекающие кровью. Но Габриэль не прибыл.
Это безумие бесцельного поиска развило во мне странную привычку обходить ряды кресел в театрах и кинозалах, и вглядываться в зрителей. Иногда я приветствовал знакомых и друзей, но тот, которого я хотел увидеть – не подал ни разу мне знак ни единым намеком, ни движением головы в мою сторону.
Еще помнится мне беседа со стариком, который был командующим «Хаганы» в Иерусалиме в 1939.
«Габриэль Тирош? Конечно же, я его помню Талантливый, мужественный командир…»
«Да, да, – торопливо подтвердил я, ожидая чего-то неожиданного, – может, вам известно, где он сейчас находится?»
«Нет. Известно мне лишь, что он ушел из «Хаганы». Но позднее… вы должны лучше меня знать, где он».
Старик подмигнул мне и рассмеялся раскованным смехом человека, который отдалился от тех бурных событий на расстояние, позволяющее ему глядеть в прошлое с безмятежным спокойствием. Именно потому, что мы в прошлом принадлежали к разным лагерям, мы нашли теперь вкус правды в той откровенности, с которой отнеслись друг другу.
«Да, – сказал я, – он был с теми, кто отвергал сдерживание».
На миг, показалось мне, лоб его омрачился.
«Подождал бы он год-два, нашел бы в нас единомышленников. Он что, не мог стать человеком Ицхака Садэ? Или Вингейта?»
«Нет, – решительно сказал я, – он был против любых совместных действий с британцами».
«А, да, я помню. Ну, и что он делал позже?»
«Многого сделать не успел».
«Почему?»
«Он исчез… В один из дней исчез с поля зрения».
«Интересно!» – сказал он и погрузился в воспоминания. – Помню что-то вроде этого. К нам по этому поводу обратился ныне покойный доктор Розенблюм».
«И вы ничего не узнали?»
«Нет. Некоторое время мы были удивлены случившемуся, особенно, когда погибла девушка из вашей гимназии в Санхедрии. Но так ничего и не обнаружили. Жаль, был молод и талантлив. Первоклассный инструктор по оружию».
Он был у вас инструктором?»
«Да. Некоторое время был даже ответственным за оружейный склад в Иерусалиме. Он был удивительным специалистом по созданию тайников для хранения оружия. В таких местах, что никто и представить не мог бы себе».
«Не рассказывайте мне, где. Не забывайте, я ведь человек ЛЕХИ».
«Ладно, ладно, – улыбнулся он мне, – кому это сейчас помешает, если я расскажу вам, что он соорудил весьма серьезный тайник в квартирах стариков, хозяев дома, в котором он снимал комнату, в квартале Бейт-Исраэль?»
«И они это знали?» – спросил я в изумлении.
«Конечно. При полном их согласии! Так он умел влиять на людей, что они были готовы спрятать у себя пистолеты и гранаты среди талесов и мешочков с филактериями… Ха-ха-ха. Где вы сегодня найдете таких стариков в Бейт-Исраэль?»
И еще я провел небольшое расследование в другом месте.
В одной из бесед с доктором Хайнрихом, он мне напомнил, что Габриэль находился некоторое время после приезда в страну, в кибуце Д.
Я написал короткое письмо в секретариат кибуца.
Ответ был еще короче. Видно, секретарь недавно вернулся с воинской службы, где, вероятнее всего, работал адъютантом, ибо письмо его было построено по сухому стандарту: «такому-то… от такого-то… тема».
Тема: Габриэль Тирош. Пишущая машинка отстучала линию. И ниже:
«Интересующий вас человек отбыл из кибуца в 1935 году. Насколько нам известно, он был учителем истории в Иерусалиме».
Но я на этом не успокоился и поехал в кибуц. Нашел несколько десятков ветеранов репатриации из Германии. Секретарь оказался более живым существом, чем выглядел в письме. После того, как я рассказал ему, что был учеником Габриэля, он позвал женщину лет пятидесяти по имени Берта Ноймайер. Она была единственным человеком, с которой Габи (в кибуце его звали так же, как и доктор Хайнрих) разговаривал. Берта рассказала мне все, что могла вспомнить.
«Он был очень замкнутым человеком. Склонен одиночеству. Работу свою в слесарной выполнял с большим прилежанием и точностью. Свободное время посвящал книгам или близким и далеким походам по окрестностям. Исчезал на долгое время, ибо проходил курсы в «Хагане», а так же был инструктором во многих местах, куда его посылали».