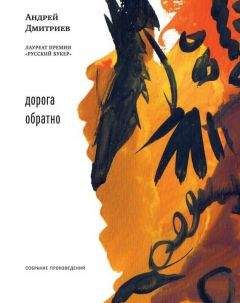Потревоженная, готовая вскрыться река глухо рычит подо льдом. Нам холодно, жутко, но нам не хочется расходиться по домам. В. В. предлагает всем, кто того, конечно, пожелает, немного прогуляться с ним по городу, быть может, послушать его рассказы о городе, и мать опять дергает меня за рукав — чтобы я понял, как мне повезло.
Воспоминания моего детства — не страшного, нормального, даже благополучного детства — это на две трети чужие воспоминания о моем детстве и о времени моего детства, присвоенные моей памятью и моим воображением. В юности я только и делал, что присваивал, приспосабливал к своим собственным, переживал как свои и пересказывал эти, да и любые другие чужие воспоминания. Когда количество сугубо моих воспоминаний в моей крови станет преобладающим, с нею что-то кислое произойдет, и я состарюсь. Я уже точно не молод: я уже ясно сознаю, что память того просторного дня, того людного гуляния под водительством великого педагога — это на две трети не моя память, а память моей матери. Моя законная треть — это вкус и запах серого хлеба, который мы с матерью на ходу ломали и ели, и отламывали другим — тем, кому хлеб не достался, да и все, кому хлеб достался, ломали его, ели и отламывали другим. Еще это голубой, нехолодный снег на зеленеющих газонах, быстрые и низкие облака над городскими крышами и то, как с наступлением темноты все же содрогнулся, затрещал и, крушась и кружась, пошел по реке лед… Две присвоенные мною материнские трети — это сами рассказы В. В. во время той стремительной прогулки и ее последовательность вплоть до скандала, учиненного нам отцом за то, что мы, не предупредив его, пропали на весь день и вернулись домой без хлеба.
Сегодня все, о чем на бегу рассказывал нам В. В., можно прочесть в ностальгической рубрике «Курьера» и в новейшем городском путеводителе. Правда, я не уверен, что путеводитель и рубрика когда-нибудь осмелятся вслед за В. В. повторить, что Нахимовский сквер назван так вовсе не в честь прославленного флотоводца, а по имени своего устроителя, купца Нахима Пруткина. В остальном все сходится, если не считать того, что путеводитель и рубрика сумрачно-слащавы, полны горьких восклицаний, вздохов и многоточий. В. В. не нахмурился ни разу. Он вел нас по городу, как крысолов, посвистывая в дудочку своих воспоминаний, и мелодия его была мажорной. Ему было весело удивить нас тем, что в городе его детства выходило полтора десятка газет, и тут же процитировать самые ходовые их заголовки, самые невероятные рекламы и объявления. Ему было радостно указать нам местоположения четырех тогдашних театров и тут же пресмешно изобразить приемы игры их премьеров, их героев-любовников, комиков и даже инженюшек и травестих. Мы в тот день впервые узнали о том, что бульвар Белы Куна, именовавшийся Варшавским, в просторечии был Меринов бульвар — с намеком на кавалерийское училище: оно квартировалось в конце бульвара, на спуске к реке, в самом видном городском здании, присвоенном впоследствии разными советскими и главными партийными комитетами. Мы впервые смогли вообразить себе все увеселения увеселительного сада Пухарского с его эстрадой, подмигивающей китайскими фонариками, с его фрачным оркестром, женщиной-обезьяной Элоизой Черемных, одноруким жонглером Флорентини и попытаться представить пахучее изобилие хлебной, рыбной и промышленной ярмарок, расстегаи и консоме трактиров и ресторанов, шары на каланче, детские утренники с фантами и шарадами, взрослые вечера с вальсами и живыми картинами, тезоименитства Е. И. В. с фейерверками и гирляндами, знаменитые похороны губернатора Кеппеля, зарезанного прогрессивным приказчиком Иваницким, — с речами, плачем, молебном и пушечным салютом.
О своей гимназии В. В. рассказывал нам со счастливой, застенчивой улыбкой, и голос его, до этого тонкий, отзванивающий жестью, сделался глубоким, мягким и шелестящим, едва заговорил он о своих одноклассниках: о Плетеневе, Жиле, Редисе и Свищове. О Лелееве он говорить не стал, благо, о Лелееве (тут В. В. не удержался и подмигнул, однако ж и посуровел, спохватившись) нам и так все известно.
В. В. рассказывал нам о друзьях своего баснословного детства одно лишь смешное: как, к примеру, они бросали из кустов Нахимовского сквера мелкие камешки в раструбы геликонов духового оркестра. О деятельности своих друзей по окончании ими гимназии он вряд ли позволил себе говорить с нами наспех и на ходу. Он лишь заметил нам, взобравшись на чугунное школьное крыльцо, что в целом мире не отыскать другой такой школы и, тем более, другого такого класса, который бы в один день и в один час выпустил в мир сразу четырех великих людей. «Пятерых! Пятерых!» — взволнованные голоса, среди которых мне был ясно слышен голос моей матери, тут же поправили В. В., чем вызвали у него приступ горького и вместе с тем сытого хохота.
Не только ради флирта и не одной лишь пьянки ради или праздной болтовни слетаются каждый год по осени в обсыпанный желтой хвоей прибалтийский городок, в кишащий белками американский кампус, в насквозь продутую невским ветром университетскую аудиторию стайки вежливых, немного жеманных, неброско, а пожалуй, и неряшливо одетых женщин и мужчин со всего света, отлично понимающих друг друга благодаря опознавательным словам и словечкам. Самые юные из этих женщин и мужчин по восторженной неопытности своей считают их строго научными терминами. «Жанр», «сюжет», «мотив», «метафора», «аллюзия», «текст», «контекст» и еще добрая сотня других, не вполне определенных, приблизительных и совершенно не обязательных для всякого, кто умеет читать, но вполне пригодных в своем кругу для обозначения некоторых состояний на свой лад упорядоченного и обихоженного бытия, — слова и словечки эти, перекликаясь, звучат в тиши балтийских дюн и сосен, канадских кленов и пихт, на гранитных невских берегах в продолжение трех или четырех осенних дней, пока на собравшихся глядит с одинаковых портретов необычайно красивый человек в щегольском пенсне без шнурка. Это Плетенев. Это в память о нем, хотя и по своим делам, сбиваются каждый год в маленькие стаи все эти вежливые женщины и мужчины.
С приходом в мир Плетенева кончилась эра произвольных суждений о литературе. Плетенев решился ее изучать, как изучают руду и кровь, атомы и плазму, химсоставы и биосистемы, как изучают числа и светила. До него о литературе писал и рассуждал всякий, кому не лень, кому доставало совести и досуга: журналист, новеллист, дипломат, помещик, поп-расстрига и просто поп, актер, книгопродавец, студент, французский авантюрист, сэр такой-то эсквайр, бедный аббат, скромный чиновник, газетный партийный критик, критик от другой партии, воспитатель добрых начал, разрушитель твердых начал, отставной офицер, уездный врач, чеховский профессор Серебряков, московский поэт, гитарист и женолюб, который прославился тем, что взял однажды на своей гитаре задумчивый нежный аккорд, потом прислушался к тому, как долго звучит он в садах, дворах и закоулках, как, измененный долгим эхом и все же родной, узнаваемый, плывет и веет в воздухе Замоскворечья, — и придумал словечко «веяние».
«Что за идиотское веяние? — писал бесстрашно Плетенев в своем гимназическом сочинении о литературных веяниях. — И почему мы обязаны всерьез, с уважением и пристальным вниманием относиться к тому, что витает в воздухе? Мало ли какая глупость витает в воздухе! Мало ли гадости витает в воздухе!.. И мухи витают в воздухе!»
О великом и, к слову сказать, своем любимом поэте, о своем старшем товарище и современнике, который помимо стихов и поэм («…самое чистое, самой благородной пробы серебро Серебряного века…» — Плетенев, Собр. соч., т. 3. «Письма») имел неосторожность написать десяток статей о стихах и поэмах, Плетенев в неопубликованном приватном письме безжалостно заметил: «Он смыслит в литературе, как воспаленный аппендикс — в гнойной хирургии».
С появлением Плетенева привычка читающих писателей и пишущих читателей к произвольным суждениям не изжила себя, но цена этих суждений упала ниже себестоимости, упала так низко, что ей, пожалуй, уже и не подняться.
Разумеется, свои первые шаги в этом, под стать наступившему веку, революционном направлении Плетенев делал не в одиночку. Самый первый шаг сделал даже не он, а его университетский товарищ Новоржевский — дважды Георгиевский кавалер, автолюбитель, диверсант, фильмовый сценарист, просветитель, в конце — эмигрант и много, много чего еще, но, самое завидное, долгожитель, сумевший пережить даже нашего В. В.
«Нам с тобой, amicus, ничуть не важно, — писал Новоржевский Плетеневу в 1915 году из галицийских сырых окопов перед той самой атакой, за которую потом, едва выжив, получил своего второго Георгия, — о чем любимец муз, властитель дум, щелкопер (зови, как хочешь) вздыхал себе, когда писал; кого любил, когда выдумывал; что обозревал, когда описывал; кого язвил, когда шутил; кому подражал; что утверждал; с кем спорил; перед кем заискивал; у кого учился и чему учил, — все эти дуновения, amicus, составляют интерес биографов, историков, психиатров и, более всего, досужих читателей обоего пола. Нам с тобою важно литературное изделие как таковое: из какой ткани оно сработано, по каким лекалам скроено, какими нитками и иголками сшито».