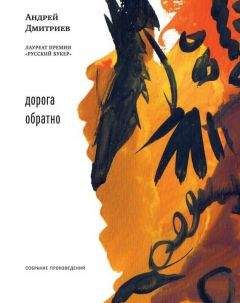«Нам с тобой, amicus, ничуть не важно, — писал Новоржевский Плетеневу в 1915 году из галицийских сырых окопов перед той самой атакой, за которую потом, едва выжив, получил своего второго Георгия, — о чем любимец муз, властитель дум, щелкопер (зови, как хочешь) вздыхал себе, когда писал; кого любил, когда выдумывал; что обозревал, когда описывал; кого язвил, когда шутил; кому подражал; что утверждал; с кем спорил; перед кем заискивал; у кого учился и чему учил, — все эти дуновения, amicus, составляют интерес биографов, историков, психиатров и, более всего, досужих читателей обоего пола. Нам с тобою важно литературное изделие как таковое: из какой ткани оно сработано, по каким лекалам скроено, какими нитками и иголками сшито».
Подхваченный и перенесенный неудержимой толпой мародеров из обжитого окопа в неуютный Петроград, Новоржевский выявил там и описал немало лекал и иголок, о существовании которых не знал до него никто. Теперь любое литературное изделие вполне можно было рассматривать с точки зрения его сработанности, как если бы, едва взглянув на фрак или кринолин, воспроизвести первоначальную выкройку фрака и кринолина, а заодно и выявить способ изготовления ткани. Это был важный шаг, но Плетенев чувствовал, что шаг коротковат, им пока немногого достигнешь, что за обнаруженными Новоржевским литературными лекалами, нитками и иголками кроется нечто более важное, нежели лекала, нитки и иголки. Плетенев понимал, что сами лекала, нитки и иголки никем не сработаны и вряд ли созданы традицией или литературной преемственностью, то есть инерцией людских пристрастий, навыков и привычек — но дарованы нам если не Богом (в Бога Плетенев не верил), то неким всеобщим законом, сродни природным законам, сродни историческим, сродни тем законам, которыми современники Плетенева легко объясняли как плавное течение рек, так и штормовые валы революций.
Чувства движения, понимания сути непрерывного развития литературы, непрестанного совершенствования и изнашивания ее лекал, ниток и иголок — вот чего не хватало вообще-то подвижному Новоржевскому. И покуда Новоржевский, ненадолго отвлекшись от литературных штудий, творил историю, то есть выводил из строя броневики белой гвардии, потом, передумав, ремонтировал их и бросал в бой против красной гвардии, Плетенев сочинял статьи, в которых излагал и обосновывал свой взгляд на развитие литературы.
По Плетеневу, литература развивается непрерывно, но неровно, в рваном ритме, чередуя крайне вялое, сонное, внешне смахивающее на полный застой движение внезапными и бурными всплесками и скачками. Чтобы быть верно понятым самим собой и другими, Плетенев использовал давно знакомые слова, такие, как «жанр», «сюжет» и им подобные, вкладывая в них, однако, совершенно новый смысл. Теперь они означали не правила хорошего или дурного литературного тона, не модный или немодный фасон, не способ кроя или вытачки, но различные проявления закономерного, глубинного и никакими другими словами не выразимого бытия. К примеру, вялая, почти застойная фаза литературного развития есть не что иное, как вегетативный период слабых, второстепенных жанров: робкие, едва заметные под ленивой ряской, они тихонько набираются сил и соков, отращивают зубы, затем нечувствительно вгрызаются в брюхо разжиревших главных жанров, выедают их изнутри и, освоившись в их оболочке, совершают вдруг стремительный рывок вперед или в сторону, сшибаясь и борясь с себе подобными, — потом устают, успокаиваются, царят, дремлют и жиреют, не замечая, как кто-то, махонький и невидный, понемногу вгрызается в брюхо им самим.
Плетенев долго болел и жил недолго. Размягченный предсмертной грустью, он неожиданно для всех сочинил роман, герои которого, былые щелкоперы и властители дум, вздыхали, мечтали, любили, язвили, шутили, со всею страстью спорили и ни перед кем не заискивали — к неудовольствию Новоржевского, к восторгу и зависти досужих читателей обоего пола.
Весной сорок первого года, в мае, в предобеденный час Плетенев сидел в соломенном кресле посреди неухоженного, заросшего конским щавелем, репейником и кустами больничного сада. Холодный ветер неохотно перебирал редкие, ссохшиеся гроздья уже отцветшей сирени и, становясь вдруг порывистым, взбивал свежую пену черемухи. Закутанный в пальто и обвернутый байковым одеялом поверх пальто, Плетенев старался отвлечься от боли, приглушенной утренним уколом морфия, но уже внятно слышной. Он думал о черемухе, о том, почему ее цветению неизменно сопутствуют холода: указывает ли эта закономерность на некий природный закон, или же похолодание атмосферы и цветение кустарника суть результаты действия двух не связанных один с другим природных законов, атмосферного и ботанического, а вот то, что проявляются они в один и тот же короткий отрезок времени, — случайность и ловушка для праздного, утомленного постоянной болью ума. Праздная, маленькая, совсем неважная мысль о черемуховых холодах звучала в нем так долго, так подробно и торжественно, что Плетенев, не додумав ее, устыдился. Приписал ее действию наркотика и заставил себя думать о самом важном.
Куда как важен был его недавний телефонный разговор со Свищовым. «Жиль в отпуске. Там все скверно. История против нас», — ответил ему Свищов на обыкновенный вопрос о делах и настроении. Плетенев перевел мгновенно: Жиль в тюрьме или, хуже того, расстрелян.
Давний друг академик Жиль, по его собственному утверждению, был как никогда близок к созданию препарата, способного прекращать деление раковых клеток на любой стадии болезни. Слабо надеясь на то, что дотянет до испытаний, Плетенев был готов испытать на себе его опытные образцы. Любой приговор Жилю был приговором и ему, Плетеневу, и сотням тысяч ему подобных, сидящих в креслах и на лавочках посреди холодных больничных садов. О тех, кто уже лежит, не вставая, в наглухо зашторенных палатах, Плетенев старался не думать.
Он думал об Истории. Этим словом он и его друзья меж собой называли бывших солдат Новоржевского, которые, сильно заскучав в осенних окопах семнадцатого года, обернулись мародерами, разграбили свою страну и, побив потом всех, кто пытался им помешать, взяли в ней небывалую власть. Из рода в род забитые и запуганные, они уверовали, что и смерть — наказание сродни епитимье, труду, штрафу, плети, каторге и оплеухе. Они взяли власть, чтобы освободиться от вечного ужаса наказаний, чтобы стать безнаказанными, и если смерть наказание, то и бессмертными… Похоже, они убедили себя, что все наказания в их руках, сама смерть в их руках, и если им суждено принять смерть, то лишь от подлой руки врага или из рук друга. Если им больше не нужен Жиль, они, похоже, и в самом деле возомнили себя бессмертными. Но тут они оплошали. Смерть не род наказания и болезнь не род наказания, скорее род назидания. Они поймут это вполне, когда окажутся в этих больничных садах и в душных, дурно пахнущих, натемно занавешенных палатах… «А ведь сюжет! — Плетенев даже привстал в кресле, да так резко, что боль распрямилась стальной пружиной и пробила ему позвоночник. — И не случайный ведь, неизбежный сюжет! Кто-нибудь непременно сочинит роман или пьесу на этот сюжет… лучше роман. Пусть не сейчас сочинит, пусть потом… а жаль, что не прочту».
Действие утреннего морфия сошло на нет, боль бушевала, но Плетенев не сдавался: «Ты только не злорадствуй, — ревниво увещевал он неведомого романиста, не из чего заключив, что это бывший санитар или врач со шкиперской, как у Жиля, бородкой, с глазами Жиля, с таким же веселым и подвижным лицом, — тебе это не свойственно, но все равно не злорадствуй… но и с жалостью, с милостью к падшим тоже не переусердствуй… И не короти, не сжимай в бульонный кубик, это тебе не смерть Ивана Ильича, там и читатель был другой, здесь читателю надо дать приспособиться, ему надобно сперва разжевать и только потом в рот положить… Не приведи тебе Бог сразу бить его по лбу, а то он с перепугу и сам пальнет тебе в лоб… Не спеши; обстоятельно: будни образцовой больницы, нормальные больные, люди как люди… и один ненормальный, несчастный дурень, который все еще убежден, что он бессмертен, потому что он — История»…
Плетенев заплакал: боль победила, и продолжение разговора сделалось невозможным. Он собрался с последними силами и как мог громко позвал медсестру, почти и не надеясь, что эта Саша его услышит: раковый корпус желтел далеко, за шумной стеной лип и тополей, — но чудо свершилось, и Саша явилась мгновенно, откуда-то справа, из-за ближайшего черемухового куста. Она была чем-то так смущена, что без обычных пререканий согласилась сделать укол на месте, прямо в саду, и даже шприц с морфием оказался при ней чудесным образом. Уколов, она исчезла быстрее, чем явилась. Боль в нем билась недолго, вскоре начала засыпать, и Плетенева потянуло в сон. Он насупился, спрятал подбородок поглубже в воротник пальто, покрепче обвернулся байковым одеялом и, прежде чем уснуть и впустить в свои сны сухой шелест травы и сирени и влажное дыхание черемухи, услышал тихий смех медсестры Саши, потом короткий мужской смешок и небрежный, печальный аккорд, взятый кем-то на семиструнной гитаре. Саша проговорила: «Тише ты!» — и гитара смолкла, но тот единственный аккорд, подхваченный ветром, уже плыл куда-то по больничным аллеям, витал в воздухе, вел за собой, манил, уговаривал не спать, и Плетенев старался не спать, тянулся слухом за ним из последних сил, скоро понял, что отстает от него, теряет его в дальнем шуме лип и тополей, виновато улыбнулся и сорвался в сон.