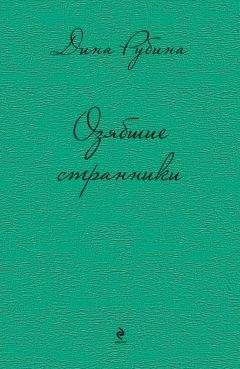— Еврей в Сибири? Это забавно. Что он там делал?
— Жил на поселении. Его сослали за сионистскую деятельность. Так и везли целую группу сосланных сионистов… Какая-то старушка на полустанке подошла к вагону, посмотрела, перекрестилась, спрашивает: «И куда ж вас, жидов-то православненьких, гонят?»
Старые покосившиеся сосны вокруг террасы, со свисающими лохмотьями спутанных длинных игл похожи были уже не на хвойные деревья, а на гигантские плакучие ивы. Оранжевая короста их бугристых стволов излучала мягкий свет, отчего сам воздух парка казался прозрачно-охристым. На густом плюще, облепившем неровную кладку каменного забора, на крутом боку рыжей глиняной амфоры у подножия ступеней, ведущих на террасу, лежали пятна полуденного солнца. Испарения влажной, после вчерашнего дождя, почвы смешивались с кондитерскими запахами из кухни: цукаты, кардамон, тягучая сладость ванильной пудры… А наверху, по синему фарфоровому озеру в берегах сосновых крон, несся лоскут легчайшего облака — батистовая распашонка, упущенная по течению нерадивой прачкой.
— Очень старый дом… — вдруг проговорил Яков Моисеевич, очевидно проследив за моим взглядом… — Не такой, конечно, старый, как в Европе, но… середина прошлого века. Его, знаете, построил один богатый араб, Ага Рашид, специально, чтобы сдать внаем или продать… Вы, конечно, бывали внутри?.. После смерти Анны все переделали… При них как было: заходишь — направо библиотека, дальше — большая комната, где доктор Тихо принимал больных. Налево — кухня… А наверху — гостиная, столовая, спальни… Стряпню из кухни наверх доставляли в лифте… Но сначала домом владел некий Шапиро, еврей из Каменец-Подольска — известный богач, ювелир, антиквар, владелец нескольких лавок… Женат был на христианке, да и сам крестился…
— Выкрест — в Иерусалиме? В прошлом веке? Что-то не верится…
— Да-да, выкрест, богач, антиквар… В 1883 году взял и застрелился. Так-то…
— На какой почве?
— Да бог его знает, дело темное… Одни говорили — разорился, другие, что прочел ненароком какое-то письмо жены, не ему адресованное…
— С письмами жен следует соблюдать сугубую осторожность… — проговорила я, подыгрывая его манере повествования.
Он грустно кивнул:
— Застрелился, бедняга… Будто место освободил. Ведь в том же году, и чуть ли не в этот же день, в моравском городишке Восковиц родился мальчик, Авраам Тихо, которому суждено было купить этот дом и прожить в нем с Анной счастливо сорок лет…
— А вы их знали? — спросила я.
— Конечно… Доктора Тихо знали не только на Ближнем Востоке. Он ведь, знаете, значительно поубавил здесь трахомы… К нему приезжали даже из Индии… Они устраивали милые приемы, я иногда здесь бывал… В последние его годы доктор был уже тяжко болен, практически недвижен, и Анна старалась хоть чем-то украсить его жизнь. Она пережила его на целых двадцать лет.
— Она действительно готовила штрудл?
Старик улыбнулся:
— О, не помню. Не думаю. Тогда для этого существовали кухарки…
Яков Моисеевич перевел светлый старческий взгляд на стол, где лежала стопка «Бюллетеней». И как бы очнулся.
— Да! Так вот, полагаю, надо бы представить вашу творческую группу членам ЦЕНТРА. Сколько человек в совете директоров «Джерузалем паблишинг корпорейшн»?
Я внимательно и ласково посмотрела ему в глаза.
— Яков Моисеевич, — сказала я. — Не так торжественно, умоляю вас. За вывеской, название которой вы проговариваете, обаятельно грассируя, скрываются — хотя и вовсе не скрываются — двое джентльменов удачи: я и Витя, мой график. И мы, ей-богу, можем делать вам приличную газету, если вы не станете сильно сопротивляться.
— По этому поводу мы и должны начать настоятельные, но осторожные переговоры с ЦЕНТРОМ.
— Это звучит загадочно, — заметила я.
— О, вы не должны тревожиться. Все — милейшие люди уже весьма преклонного возраста… Видите ли, смысл жизни они видят в сохранении связей между членами нашей общины… И вот этот «Бюллетень» — тоже часть их жизни… Я понимаю, он выглядит несколько… несовременно. Может быть, поэтому в последнее время подписка на него сильно упала. Тут, конечно же, и естественные причины: многие из стариков уже покинули наши ряды, а дети и внуки, знаете ли, читают уже на иврите, английском… Но люди, о которых я упомянул… с величайшим, поверьте мне, уважением, — собственноручно делают наш «Бюллетень» с тридцать девятого — да-да, милая! — с тридцать девятого года. Это их детище… Вы понимаете, что я хочу сказать?
Я не ответила. Было бы неделикатно говорить Якову Моисеевичу, что прежде, чем обращаться к нам с предложением реорганизовать китайское детище, следовало бы тихо удавить его папаш.
— Но ведь это хлам, Яков Моисеевич, — проникновенно сказала я, — хлам, неинтересный даже этнографам, поскольку вы не китайцы, а очередные евреи с очередным плачем на реках вавилонских. Послушайте, дайте нам в руки этот труп, мы вернем его к жизни. Его будут читать не только ваши китайцы, дети китайцев и внуки китайцев. Мы вытянем вас из стоячего болота умирающих воспоминаний, мы повернем вас к миру и заставим, чтобы мир обратил на вас пристальный взор! Литература, политика, полемические статьи…
— Боюсь, что ЦЕНТР не воспримет этой идеи, — проговорил он озабоченно. Провалиться мне на месте, он так и называл эту тель-авивскую престарелую компашку — ЦЕНТР!
Я ласково спросила:
— А похерить ЦЕНТР?
— Не удастся, — вздохнул он. — Средства сосредоточены в руках Мориса Лурье, нашего председателя. Он человек с принципами.
— Эх, Яков Моисеевич, — сказала я, — генетическая предопределенность, робость роковая… Ваш отец, богач, владелец предприятий, угольных копей и парохода, бежал, все бросив, испугавшись судьбы. А мой дед, голодранец и хулиган, остался в России и сражался — неважно с каким успехом — за счастье русского народа…
— Что не отменяет того неоспоримого факта, — задумчиво заметил он, — что мы с вами сидим сейчас, в пять тысяч семьсот пятьдесят восьмом году от сотворения мира, в городе Иерушалаиме, где и положено нам с вами сидеть…
— Что не отменяет того неоспоримого факта, что все-таки вы нанимаете меня, а не наоборот, — сказала я. — Та же генетическая предопределенность, только иной поворот сюжета, мм?..
Он подозвал официанта и на мое порывистое движение достать из сумки кошелек, успокаивающе поднял ладонь. Затем встал, надел висевшую на спинке стула куртку, основательно приладил на голове кожаную кепочку и сразу из разряда дореволюционных русских интеллигентов перешел в разряд еврейских мастеровых. Я подумала, что в процессе нашей довольно долгой беседы он становился все ближе к народу, и улыбнулась этой странной мысли. Во всяком случае, кепочка делала его проще, много проще.
— А вот этот ваш… вы сказали… Витя? — спросил он, и в голосе его слышалась тревога.
— Я его подготовлю! — торопливо заверила я, не вдаваясь в подробности, что сие значит. — На переговоры мы приедем вдвоем. Как я поняла, офис вашей организации находится в Тель-Авиве?
— Да, — сказал он. — И поверьте, мне тоже придется их кое к чему подготовить.
* * *
Так началась эта идиотская история, которая, собственно, ничем и не закончилась, но в то время мы с Витей смотрели в будущее с наивной надеждой детей, не подозревающих о том, что жизнь конечна в любом ее проявлении.
Особенно Витя — он обладал прямо-таки неистощимым энтузиазмом придурка. Услышав о результатах моего предварительного осторожного осмотра китайского поля деятельности, он загорелся, стал мечтать о том, как постепенно из тощего «Бюллетеня» наш журнал перерастет в солидный альманах, межобщинный вестник культур… ну, и прочая бодяга. Хотя, не спорю, сладкие это были мечты.
— Надо позвонить Черкасскому, — деловито рассуждал он, — попросить широкий обзор китайской литературы последней четверти девятнадцатого века.
— Почему последней? — спрашивала я. — И почему девятнадцатого?
— Так будет основательней! — запальчиво отвечал Витя. — Читатель обязан представить себе ситуацию, которая предшествовала времени заселения Китая русскими евреями!
— Проснись, — убеждала я. — На сегодняшний день мы имеем только Фаню Фиш, тщательно оберегаемую ЦЕНТРОМ, и таинственного Лу, который преданно ухаживал за ней…
Мне часто хотелось его разбудить. Витя и вправду все время видел сны. Особенно часто он видел во сне покойного отца. Страстный коммунист, верный ленинец, окружной прокурор — тот продолжал в Витиных снах преображать мир. Например, недавно покрасил в синий цвет его персидскую кошку Лузу. И во сне Витя все пытался урезонить отца. Ну, хорошо, говорил он, тебя одолел живописный зуд — так можно ж было попробовать, покрасить легонько в каком-нибудь одном месте, я не знаю, кончик хвоста, два-три штриха…