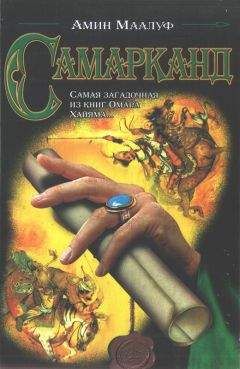Однако это было не так. Она все еще сидела за столом: одинокая, далекая, с печатью заботы на челе. Не спуская с нее глаз, я как можно более медленно нагнулся за портфелем, стоящим возле стула. Ширин была повернута ко мне в профиль. Недвижная, безучастная ко всему. Я сел и стал смотреть на нее. Меня охватило ощущение, что мы снова в Константинополе в салоне Джамаледдина и этих двенадцати лет не было. И тогда она сидела точно так же: повернувшись в профиль, с голубым шарфом на голове, ниспадающим до пола. Сколько лет ей тогда было? Семнадцать? Восемнадцать? Теперь это была тридцатилетняя женщина, спокойная, зрелая, царственная. Но все такая же стройная. Она сумела устоять перед искушением восточных женщин ее уровня: проводить дни в роскоши, лакомясь восточными сладостями. Была ли она замужем? Разведена? Вдова? Мы никогда не касались этой темы.
О, как мне хотелось уверенным голосом произнести вслух: «Я люблю тебя с тех самых пор, с Константинополя». Губы мои дрогнули и сжались, не издав ни малейшего звука.
Ширин медленно обернулась, без удивления всмотрелась в меня, словно я все время был тут, во взгляде ее мелькнула растерянность. И вдруг перешла на «ты».
— О чем ты думаешь?
Ответ вылетел сам собой:
— О тебе. Всегда. От Константинополя до Тебриза.
Слегка оробевшая улыбка пробежала по ее лицу. Я же не нашел ничего лучшего, как повторить те заветные слова, ставшие для нас неким паролем:
— Как знать, не пересекутся ли однажды наши пути!
Несколько секунд мы оба мысленно пробегали весь этот долгий путь, затем она произнесла:
— Я увезла книгу из Тегерана.
— Рукопись из Самарканда?
— Все это время она лежит на комоде возле моей постели, я не устаю читать ее, знаю наизусть и стихи, и хронику.
— Я бы отдал десять лет жизни за одну ночь с этой книгой.
— И я бы отдала одну ночь своей жизни.
Мгновение спустя я склонился над Ширин, наши уста соединились, глаза закрылись, ничто больше не существовало для нас, кроме монотонного пения цикад, заполнившего наши оглохшие вдруг головы.
Это был долгий обжигающий поцелуй преодоленных лет и барьеров.
Боясь, как бы нас не застигли нагрянувшие вдруг друзья или слуги, мы встали, и она повела меня по крытой галерее до маленькой дверцы, о существовании которой я и не подозревал. Мы поднялись по потрескавшимся ступеням до покоев шаха, которые она сделала своими. За нами закрылись двери, прогремел тяжелый засов, и мы остались наедине и… вместе. Тебриз перестал быть городом на обочине мира, мир томился на обочине Тебриза.
Я обнимал и целовал свою царственную подругу в величественной постели с колоннами и балдахином: собственноручно развязал каждый узелок, расстегнул каждую пуговку на ее платье, ладонями, пальцами, губами заново нарисовал каждый изгиб ее тела, она же отдалась моим ласкам и неумелым поцелуям, а из ее закрытых глаз текли теплые слезинки.
Наступило утро, а я так и не дотронулся до Рукописи. Она лежала на комоде, с другой стороны постели, но Ширин спала нагая, положив голову мне на плечо, прижавшись ко мне грудью, и потому ничто в мире не заставило бы меня пошевелиться. Я пил ее дыхание, запах ее тела, любовался ее забытьем, разглядывал реснички, отчаянно пытаясь разгадать, что заставляет их вздрагивать — приятное сновидение или кошмар. Проснулась же она тогда, когда до нас донесся первый городской шум. Я поспешил уйти, пообещав себе посвятить книге Хайяма следующую ночь любви.
Выйдя из Пустого Дворца, я поежился — утром в Тебризе всегда свежо — и побрел к своему караван-сараю, не стремясь сделать свой путь короче. Во мне еще не улеглось ночное кипение страсти, спешить было некуда, хотелось подумать, перебрать в памяти образы, жесты, слова, которые мы шептали друг другу. Я не знал, счастлив ли, только ощущал в себе некую полноту бытия, сочетавшуюся с угрызениями совести, неизбежными, когда любовь тайная. Мысли мои были назойливы, какими только и могут быть мысли после ночи, проведенной без сна: «Забылась ли она сном, когда я ушел? Улыбается ли во сне? Не жалеет ли? Когда мы снова свидимся, но будем не одни, как она себя поведет — отстранение или как-то иначе? Вечером снова буду у нее, и в ее глазах стану искать свою веру».
В этот момент раздался пушечный залп. Я замер на месте, прислушался. Была ли это наша единственная бесстрашная Банж? Послышалась перестрелка, затем установилась тишина. Я двинулся дальше, держа ухо востро. Второй залп, третий. На этот раз я забеспокоился: одна пушка не могла стрелять так часто, значит, их было две, а то и больше. В нескольких улочках от меня разорвались снаряды. Я бросился бежать к цитадели.
Фазель подтвердил то, чего я опасался: ночью к городу подошли передовые отряды высланного шахом войска и заняли те части города, которые удерживали наши враги.
За ними подтягивались остальные. Куда ни кинь взгляд, повсюду были регулярные силы противника. Началась осада Тебриза.
Перед отправкой войска в Тебриз полковник Ляхов, движущая сила государственного переворота, держал перед солдатами такую речь:
«Доблестные казаки,
шах в опасности, некие люди в Тебризе не признают его власть, объявили ему войну, пытаясь принудить его признать конституцию. Конституция намерена уничтожить ваши привилегии, распустить вашу бригаду. Если она победит, ваши жены и дети будут голодать. Конституция — ваш злейший враг, вы должны сражаться с ней как львы. Разогнав парламент, вы вызвали восхищение во всем мире. Продолжайте свое спасительное дело, душите взбунтовавшиеся города, и обещаю вам со стороны русского и персидского правительств деньги и почести. Все богатства Тебриза в вашем распоряжении, вам остается только взять их!»
В Тегеране, Санкт-Петербурге прозвучал один и тот же приказ: Тебриз должен быть задушен, он заслуживает самой жестокой кары. Когда это случится, больше никто не осмелится заговорить о конституции, демократии, парламенте и Восток сможет снова почить прекрасной смертью.
В последующие месяцы всему миру предстояло стать свидетелем странного и душераздирающего спектакля: пока в разных концах Персии вспыхивали очаги сопротивления режиму по примеру Тебриза, сам Тебриз был взят в жесточайшее кольцо осады. Хватит ли времени у сторонников конституции подняться, вооружиться, пока не пал их главный бастион?
В январе был одержан первый крупный успех: по призыву бахтиарских князей — это были дяди Ширин по материнской линии — Исфахан, древняя столица Персии, взбунтовался, провозгласил себя приверженцем конституции и выразил солидарность с Тебризом. Когда эта весть долетела до осажденного города, тот просто взорвался от радости. Всю ночь жители бродили но городу и скандировали: «Тебриз — Исфахан: страна пробуждается!» Но уже на следующий день мощная атака регулярных войск вынудила защитников города оставить позиции на юге и западе. С внешним миром город теперь связывала только одна дорога — та, что вела на север, к границе с Россией.
Тремя неделями позже восстал город Решт. Как и Исфахан, он примкнул к Фазелю. В Тебризе это вызвало новый взрыв радости. Но тут же последовал ответный удар: последняя дорога оказалась в руках казаков, кольцо вокруг Тебриза сомкнулось. Ни почты, ни продовольствия ждать не приходилось. Чтобы прокормить две сотни тысяч жителей, требовались чрезвычайные меры в сфере распределения.
В феврале и марте 1909 года число городов — сторонников конституции возросло: теперь территория демократии приросла Ширазом, Хамаданом, Мешедом, Астарабадом, Бандар-Аббасом, Бюширом. В Париже образовался комитет в поддержку Тебриза во главе с неким г-ном Дьёлафуа, ориенталистом, то же произошло и в Лондоне под председательством лорда Ламингтона, но еще важнее было то, что главные священники из числа шиитов в Карбале, что в оттоманском Ираке, торжественно и недвусмысленно высказались в пользу конституции, заявив о своем несогласии с ретроградами в религиозных кругах.
Дело Тебриза побеждало, но сам он погибал.
Неспособный действовать одновременно на стольких направлениях, шах сосредоточился на одной-единственной задаче: сломить Тебриз, источник зла, рассчитывая, что, когда падет он, поколеблятся и другие. Не сумев взять город приступом, он решил уморить его голодом.
Хлеба не хватало. В конце марта появились первые умершие от истощения, по большей части старики и малые дети.
В лондонской, парижской и санкт-петербургской прессе поднялась волна возмущения своими властями, которые не пеклись о судьбе соотечественников, оставшихся в осажденном городе и подвергавшихся опасностям и лишениям. Мы узнавали об этом по телефону.
Однажды Фазель призвал меня к себе, чтобы объявить:
— Русские и англичане намерены вскоре эвакуировать своих подданных, чтобы можно было сломить Тебриз, не вызвав возмущения во всем мире. Это будет для нас тяжелым ударом, но я хочу, чтобы ты знал: я не стану препятствовать этому и удерживать кого-либо насильно.