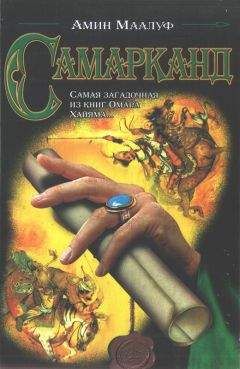Только прочтя все четверостишия до последнего и подолгу вглядываясь в каждую миниатюру, мы вернулись в начало книги, чтобы прочесть хронику на полях. Примерно половина ее была написана Вартаном Армянином; благодаря ей я узнал историю Хайяма, Джахан и трех друзей. Затем шли записи, сделанные библиотекарями Аламута, отцом, сыном и внуком, — каждая страниц на тридцать, в них описывалась необыкновенная судьба Рукописи после ее похищения из Мерва, шла речь о ее влиянии на ассасинов и их собственная история вплоть до монгольского нашествия.
Ширин прочла мне последние строки хроники, которые я вряд ли разобрал бы сам: «Мне пришлось бежать из Аламута накануне его разрушения, путь мой лежал на родину — в Кирман, я унес с собой и рукопись несравненного Хайяма из Нишапура, которую решил спрятать в тот же день, надеясь, что ее не найдут до тех пор, пока людские руки не станут достойны притрагиваться к ней. Полагаясь в этом на Всевышнего, который кого хочет, направляет, а кого хочет, заставляет блуждать». Под этим стояла дата, соответствующая 14 марта 1257 года.
Я задумался.
— Рукопись молчала с тринадцатого века, Джамаледдин получил ее в подарок в двадцатом. Что происходило с ней все это время?
— Все это время она спала, — отвечала мне Ширин. — Предавалась бесконечной восточной сиесте. А затем резко пробудилась от сна в руках безумного Мирзы Резы. Ведь и он родом из Кирмана, как и аламутские библиотекари. Тебя так удивляет, что его предок — ассасин?
Она встала с постели и села на табурет перед овальным зеркалом. Я мог бы часами смотреть, как грациозно движется ее нагая рука, расчесывающая волосы, но она вернула меня к прозаической действительности:
— Тебе нужно быть готовым покинуть меня, если ты не хочешь, чтобы тебя застали в моей постели.
Дневной свет уже заливал спальню, занавеси были слишком легки и прозрачны.
— И то правда, — устало произнес я, — чуть не забыл о твоей репутации.
Она со смехом обернулась ко мне.
— Вот именно, я пекусь о своей репутации и потому не хочу, чтобы во всех гаремах Персии говорили, будто прекрасный чужеземец ночь напролет провел рядом со мной и даже не подумал раздеться. Мне как женщине придет конец, никто больше меня не пожелает!
Уложив Рукопись в ларец, я поцеловал свою возлюбленную в губы, а затем поспешил наружу, чтобы вновь погрузиться в тревоги осажденного города.
Почему из всех, кто умер в эти месяцы, я вспоминаю прежде всего Баскервиля? Потому ли, что он был моим другом и земляком? Безусловно. А еще потому, что не было у него иных устремлений в жизни, как увидеть возрождающийся к свободе и демократии Восток, который не был ему родным. Отдал ли он жизнь ни за что? Через десять, двадцать, сто лет вспомнит ли о нем Восток, Персия? Я стараюсь об этом не думать из страха впасть в неизбежную тоску тех, кто живет между двумя мирами, одинаково многообещающими и разочаровывающими.
Если же ограничиться описанием того, что последовало сразу за смертью Баскервиля, можно было бы утверждать, что эта смерть была не напрасной.
Череда событий — иностранное вторжение, снятие блокады, продовольственные конвои — спасла тысячи жизней. Есть ли в том заслуга Говарда? Ведь решение было принято независимо от его поступка? Можно лишь говорить о том, что его смерть ускорила претворение этого решения в жизнь и многие люди дождались спасения.
Что касается Фазеля, то, разумеется, он уж никак не возрадовался бы появлению царских солдат в осажденном городе. Я как мог пытался уговорить его смириться.
— Население больше не в состоянии сопротивляться, единственный подарок, который ты в силах сделать людям, это спасти их от голода. После всех страданий, которые они перенесли, ты обязан это сделать.
— Выстоять в течение десяти месяцев, чтобы в одночасье оказаться под колпаком у царя Николая, покровителя шаха!
— Но русские действуют не в одиночку, они посланы всем международным сообществом, наши друзья по всему миру аплодируют такому повороту событий. Отказаться от помощи, противиться ей в настоящих условиях значит утерять преимущество огромной поддержки, которую нам оказывали до сих пор.
— Подчиниться, сложить оружие, когда победа так близка!
— Это ты мне отвечаешь или вопрошаешь судьбу?
Фазель вздрогнул, его взгляд был полон упреков.
— Тебриз не заслужил такого унижения!
— Не в твоих и не в моих силах изменить что-либо, бывают минуты, кода любое решение худое и нужно выбирать то, о котором будешь меньше сожалеть!
Он как будто успокоился и погрузился в напряженные размышления.
— Какая судьба ожидает моих соратников?
— Британцы гарантируют им безопасность.
— Оружие?
— Каждый оставит при себе свое ружье, дома обыскивать не станут, за исключением тех, из которых будут стрелять. Ну а тяжелые орудия придется сдать.
Казалось, тревога не покидала его.
— А кто потом заставит царя вывести из Тебриза свои войска?
— В этом нужно положиться на Провидение!
— Как, однако, по-восточному ты рассуждаешь!
Нужно было знать Фазеля, чтобы понять, что в его устах это ни в коей мере не звучало как похвала. К тому же на его лице было написано подозрение.
Я понял, что пора менять тактику, и с громким вздохом встал.
— Ты, безусловно, прав, не нужно мне было заводить этот разговор. Пойду передам английскому консулу, что не смог тебя убедить, потом вернусь и до конца буду с тобой.
Фазель удержал меня за рукав.
— Я тебя ни в чем не обвиняю и даже не сказал «нет» в ответ на твои уговоры.
— Уговоры! Да я лишь передал предложение англичан, уточнив, от кого оно исходило.
— Успокойся и попытайся меня понять! Мне прекрасно известно, что помешать вторжению русских в Тебриз не в моих силах, а также и то, что, окажи я им малейшее сопротивление, весь мир осудит меня, начиная с моих же земляков, которым освобождение нужно, откуда бы оно ни пришло. Понимаю я и то, что конец осады поражение для шаха.
— Разве не это было целью твоих действий?
— В том-то и дело, что нет. Я могу проклинать этого шаха, но воюю не с ним. Одолеть деспота не может являться высшей целью, я борюсь за то, чтобы персы осознали себя свободными людьми, «сыновьями Адама», как мы здесь говорим, чтобы они поверили в самих себя, свою силу, нашли свое место в современном мире. Этого я добивался. Город скинул с себя опеку шаха и духовенства, бросил вызов мировым державам, повсеместно подняв волну солидарности и восхищения людей, имеющих сердце. Жители Тебриза были на волосок от победы, их примера страшатся, их хотят унизить, это гордое племя должно кланяться царским солдатам, чтобы не умереть с голоду. Ты, родившийся свободным в свободной стране, должен понять.
Выждав несколько секунд, я подвел итог:
— Так что передать консулу от твоего имени?
Фазель расплылся в самой фальшивой улыбке:
— Скажи ему, что я в очередной раз буду счастлив найти приют у Его Величества.
Мне потребовалось время, чтобы осознать, до какой степени оправданной была горечь Фазеля. Пока же события не подтверждали его опасений. Он провел несколько дней в британском консульстве, после чего г-н Вратислау вывез его в своем автомобиле через русские позиции в окрестности Казвина. Там он влился в конституционные войска, которые после долгого ожидания готовились выступить на Тегеран.
Пока Тебризу угрожало удушение, шах сохранял мощный инструмент разубеждения своих врагов — ему удавалось пугать их, сдерживать. Но со снятием осады друзья Фазеля ощутили себя свободными в своих действиях и, не откладывая, предприняли поход на столицу. В нем участвовали два армейских корпуса — один из Казвина на севере, другой из Исфахана на юге. Последний, состоящий в основном из бахтиар, овладел Кумом 23 июня. Несколько дней спустя было распространено совместное англо-русское коммюнике, в котором сторонникам конституции предлагалось немедля прекратить боевые действия и заключить с шахом соглашение. В противном случае обе державы считали себя вправе вмешаться. Фазель и его друзья проигнорировали коммюнике и ускорили продвижение: 9 июля их войска соединились у стен Тегерана, 13 июля две тысячи солдат вступили в столицу через неохраняемые северо-западные ворота, неподалеку от французской миссии, прямо на глазах опешившего корреспондента «Таймс».
Сопротивление оказал только полковник Ляхов: с тремя сотнями казаков, несколькими старыми пушками и двумя скорострельными «Крёзо» он сумел удержать под своим контролем несколько центральных кварталов. Ожесточенные бои длились по 16 июля.
В этот день в восемь тридцать утра шах явился в русскую миссию в окружении пяти сотен солдат и придворных, ища там политического убежища. Это было равносильно отречению от престола.