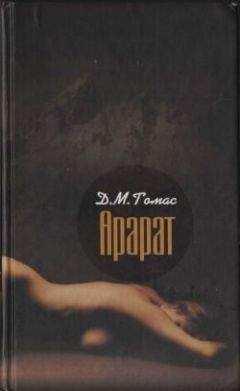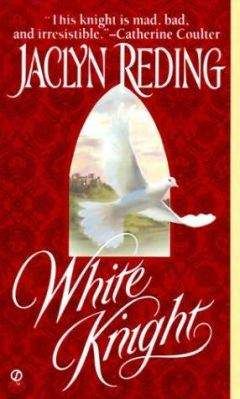Но не успел я дочитать стихотворение до конца, как она проснулась, – должно быть, слова «Анна! Анна!» прозвучали громче остальных. Она испуганно спросила, что случилось. Ничего, ответил я, просто у меня жар. Может, ей стоит вызвать врача. Встревоженная, она поцеловала меня в губы и выпрыгнула из постели. Я снова увидел все ее косточки, пока она застегивала свой узкий лифчик и натягивала белые трусики, и почувствовал облегчение, что меня оставят в покое. Я был раздражен, когда она перед уходом снова страстно поцеловала меня, шепнув – я люблю тебя. Может быть, несмотря на все мои старания, у нее создалось обо мне неверное впечатление? Ведь правда же то, что я сжигаю женщин, как марафонец сжигает собственную плоть! Сколько их у меня было? Три сотни? Три тысячи? Нужна революция, чтобы я мог очистить свой дух. Мне надо исповедоваться… Явившийся корабельный врач не располагал к доверительным беседам: латыш в пенсне, как у Лаврентия Берии, он был выбелен, выскоблен арктическими ветрами.
Тем не менее я решил быть с ним откровенным. Он бесстрастно измерил мне температуру, затем, считая пульс, спросил, когда впервые у меня появилась подобная лихорадка. Я тщательно обдумал ответ – мы оба плохо говорили по-немецки.
– Очень давно. Когда я женился на Любови Дмитриевне, то обнаружил, что наш брак никогда, так сказать, не будет доведен до конца, ибо мне необходимо было спать со шлюхами, чтобы боготворить ее. В сущности, мы дошли в нашем браке до конца – но лишь однажды, через несколько лет после свадьбы. В тот единственный раз нам обоим показалось, что необходимо узнать друг друга полностью. Мне скучно с Любовью Дмитриевной, но мне нужна эта скука. Я не могу писать, если ее нет дома, но, с другой стороны, мне тяжело выносить ее присутствие. Она актриса и из-за этого часто отлучается из дому, и тогда я несчастен до самого ее возвращения. Однажды она вернулась и призналась, что изменила мне и беременна. Я был вне себя от радости, узнав, что Любовь Дмитриевна забеременела от этого неизвестного соперника, я был рад и ребенку и обещал, что буду относиться к нему как к своему собственному. Но крошка Митя умер, прожив на свете всего десять дней. Бессмысленность его жизни и смерти меня потрясла.
Я люблю и Любовь Александровну, она моя любовница. Она поет в опере и тоже мне докучает, но это очень сексуально, это затягивает. Я обожаю скуку ее спазматической чувственности. У нее длинные золотистые волосы с красноватым отливом. Когда я был в театре, где она пела партию Кармен, то вся сцена была в темноте, кроме ее золотисто-рыжих лобковых волос, – я буквально видел, как они порхают над сценой под ее платьем, корсетом и всем остальным.
Вы, возможно, не знаете, что означает это имя по-русски? Любовь.
Я люблю Любовь и дитя Любви. Я влюблен в Любовь. Любовь – сердцевина всей моей жизни. Любовь – это Прекраснейшая Дама, и сущность ее темна и загадочна. Я – дитя Любви, и я же ее повелитель. Любовь наполняет мои дни скукой и дарит моим ночам мгновения вожделения. Любовь опустошает меня, но я хочу этого разрушения. Я люблю Любовь, когда она расчесывает свои золотистые волосы и когда шепчет в темноте непристойности. Я люблю ее, когда я болен и она ухаживает за мной. Я люблю ее, когда она прижимает к себе золотого лебедя и когда нежно склоняется над младенцем Христом. Я люблю ее, когда она сидит обнаженной на скале и ее волосы струятся, вымокшие в морской воде, и она держит руку ладонью кверху меж своих статных бедер – то ли чтобы дать, то ли чтобы забрать, нам это неведомо.
И знаете, доктор, я начинаю чувствовать себя лучше. Пожалуй, я лучше встану и оденусь.
Возразив, что у меня по-прежнему опасно высокая температура, он все же соглашается и помогает мне надеть рубашку.
Думаю, я даже смогу съесть что-нибудь на завтрак. Корабль тяжело раскачивается, и я на нетвердых ногах вхожу в столовую. Анна сидит рядом с толстой негритянкой – метательницей диска с Кубы; увидев меня, она машет мне с детской непосредственностью, не скрывая любви и удивленной радости. Она с облегчением видит, что мне стало лучше. При метательнице диска невозможно говорить о том, что мне запрещено в кого-либо влюбляться, а когда мы остаемся наедине, я по-прежнему не решаюсь об этом сказать. По ее лицу я вижу, что очарование прошлой ночи ничем не нарушено, и мне совершенно ясно, что она намеревается провести день вдвоем со мной. Говорю ей, что мне надо работать. В конце концов, это в какой-то мере правда. Но сразу же замечаю, что она разочарована и озадачена. Позже я мельком вижу ее в бассейне – белый купальник подчеркивает ее худобу. По контрасту меня привлекает крупная чернокожая девушка, метательница диска, что еще вчера показалось бы мне невозможным. Воображаю, как гора плоти наваливается на меня, и при этой мысли чувствую противоестественное возбуждение. Затеряться в таком количестве плоти! Воспринимаю это как признак скорого выздоровления.
В курительной комнате нет ни души, кроме старика, с грустным видом читающего какую-то книгу. Говорю «старик», но, возможно, в этом виноваты лишь его седые волосы и дубленая кожа. Может, он не так уж и стар. Забываю о том, что у меня самого волосы теперь совершенно седые. Но в том, что он грустен, нет никакого сомнения. Он лишь притворяется, что читает. Взгляд его время от времени скользит в мою сторону, и он явно хочет со мной заговорить.
Делаю замечание о приятном и теплом осеннем деньке, и это позволяет нам поболтать насчет старомодной прелести морских вояжей.
– Вы в отпуске? А чем занимаетесь? – спрашивает он дружелюбно.
– Я писатель, – говорю ему в ответ. – Вообще-то поэт, но за несколько последних лет написал еще и биографию и два романа. Чувствовал себя довольно одиноким, а написание романа – прекрасное средство заводить друзей. Считаю, что жизнь человека, достигшего средних лет, становится все больше похожей на выдумку. Нет уже большой разницы между выдумкой и действительностью… Это вообще свойственно нашему возрасту, как вы полагаете? Выдумка по сравнению с действительностью часто кажется скучной; человеческая же реальность настолько фантастична, что кажется выдумкой… Взять, к примеру, эти будто бы мемуары Шостаковича, я их читал в самиздате. Подлинные они или подделка? И имеет ли это на самом деле значение?..
Я умолкаю, осознавая, что забрел куда-то не туда. Но старик улыбается и кивает.
– А вы не Виктор Сурков? – спрашивает он. – Да, я так и думал! Я читал о вас в «Крокодиле». Вы получили Ленинскую премию? Поздравляю! Забыл, как называлась эта книга.
– «Ленинград пробуждается».
– Да-да! Надо бы ее прочесть. Это не та книга, что лежит у вас на коленях?
Я смеюсь.
– Нет! Эту книгу навряд ли можно напечатать в Советском Союзе. По крайней мере, полный ее текст.
Он просит дать ему взглянуть на обложку, и, чтобы он не вставал, я сам подношу ее к его креслу. Он читает заголовок, и губы у него слегка подрагивают, как это иногда бывает у стариков при чтении.
– А!.. Бабий Яр… Я там был.
Последние слова сопровождаются вздохом, похожим на звук падающего березового листа.
Я бормочу что-то сочувственное. Он выглядит больным, и мне хочется отвлечь его от горестных воспоминаний.
– Где вы живете? – спрашиваю я.
– Я человек без гражданства.
Я киваю.
– А чем занимаетесь – или занимались?
– Я был военным, имел отношение к международной политике.
Я снова поощрительно киваю. Он сообщает, что зовут его Финн, он скандинавского происхождения. В его фигуре и лице действительно есть что-то нордическое. Он направляется в Нью-Йорк, чтобы произнести речь в ООН. Затем он спрашивает меня о цели моего путешествия. Рассказываю ему о своей американской знакомой, армянке по происхождению, которую я до сих пор ни разу не видел. Лицо его становится пепельным.
– Я хорошо знаю Армению, – говорит он. – Был там во время Первой мировой войны.
– У этой страны ужасно трагичная судьба.
– Да, и особенно это касается тысяча девятьсот пятнадцатого года.
– Вы имели отношение к геноциду?
Он глубоко вздыхает.
– Имел.
– Расскажите мне об этом – если это вас не слишком расстраивает.
– Конечно, расстраивает, но мне хотелось бы вам рассказать.
Он осторожно, слегка прихрамывая, подошел и опустился в соседнее кресло. Зубы у него сильно испорчены, а в глазах желтоватый оттенок.
– Трудно решить, с чего начать, – сказал он. – Потому что точного начала не было. Я был молодым армейским офицером и служил сперва в казе Буланык, километрах в ста к северо-западу от Муша. Какие-то акты насилия над армянами имели место уже в июне: выбитые зубы, вырванные ногти, вывихнутые конечности, разбитые носы; жен и дочерей насиловали на глазах мужей и отцов – и все такое прочее.
Когда Финн наклонился вперед, я ощутил неприятный запах у него изо рта.
– Это, конечно, было необходимо, – продолжал он, – чтобы депортировать армян из Турции. Но я часто задумываюсь, не было ли для этого какого-нибудь иного способа. Десятого июля мы собрали всех мужчин из поселений в окрестностях Муша, загнали их, как стадо, в концентрационные лагеря и закололи штыками. Женщин и детей мы заставили войти в большие деревянные сараи, которые подожгли. В Муше было около шестидесяти тысяч армян, выжили очень немногие.