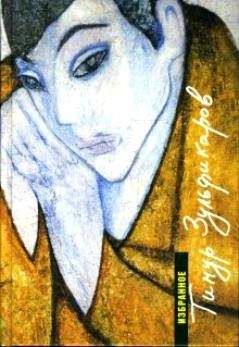О Господи! Помоги! Пощади!
Пощади нас у костра Христова покорных слепых потомков неповинных пощади!..
И сойдет наш Иисус Христос в костер Руси!..
И запахнет вновь жженым живым волосом Его по всей Руси.
И закричат во всю Русь сырые иудины ноябрьские певни петухи.
И пух ледовых петухов иуд по всей Руси полетит!..
И все всех руссов очи затемнит затмит!..
И пойдут по всей Руси как чумовая язва сыпь повальная иисусовы иудины костры…
И необъятный пух иудиных ноябрьских петухов несметный полетит…
…Русь… Путь от Гефсимании к Голгофе…
Путь березами опалыми осенними родимыми безвинными повит… серебряно облит…
И кто ступил на Русь — дорогой этою уйдет.
И кто ступил на Русь — уйдет дорогою молитв…
И все дороги на Руси — к Голгофе сладкие пути…
Но но но…
Но у того костра начального Анастасия матерь покорная бесслезная полянка косариха стоит.
И она тихо князю гробовому Владимиру певуче текуче летуче речет поет ласкает говорит:
— Князь. Батюшка. Тот оставшийся навек в костре Рогволд-Язычник — твой сын.
Иль не ты в поле дальном спелом скошенном меня полянку косариху покосил?
Ты набросал в льняной покосный девий потаенный сокровенный мой подол текучих девьих земляник лесных малин…
Князь. Муж мой первый. Ты у костра стоишь.
А в костре остался твой сын…
…И поклонно кладет у ног князя покосную рубаху дальную со следами тех малин тех земляник.
Тогда князь с улыбкою на гробовых кривых устах говорит:
— Первых-то щенят за забор мечут!.. — и смеется лает блеет по-лисьи остро, — хи-хи-хи…
Но узнает рубаху и содрогается и молчит…
И шепчет старыми дрожащими губами плачет:
— Сыне… сыне… сыне… сын…
Тогда Анастасия тихо отходит отступает тишайшая в поле сизых киевских ночных молитвенных равнин…
Тогда Анастасия-Русь отходит в ночь тоскующих равнин…
Тогда Анастасия-Русь отходит в нощь кочующих холмов…
…Но кто-то отходит от костра за ней, но кто-то отходит за ней и неслышно средь некошенных напоенных высоких трав трав средь ночных избыточных жиряков перепелов подходит к ней…
И медовыми медвяными медуницами веет пахнет от него от пастушьей овечьей кроткой одежды милоти его и Муж Путник в милоти трогает Анастасию за косу ее…
А коса была золотая солнечная девья а стала коса после костра того коса серебряная лунная.
Седая стала коса.
И была коса — рожь золотая, а стала коса — лен серебряный.
И она узнала Его.
И ночные холмы кочующие встали враз не колыхались не содвигались боле и узнали Его.
И ночные терпкие острые травы узнали Его и пошли тихими покорливыми постелями одеялами волнами шелками духмяными под босыми ступнями Его.
И Анастасия-Русь матерь узнала Его и как дитя как сосунок метнулась зашлась успокоилась блаженно припала к свежему крутому плечу его к пастушьей кроткой милоти его и шептала:
— Отче, зачем костер этот?..
И Он сказал:
— Жено это костер язычников. Не мой.
Мой был Крест. И будет он на Руси сей…
И Он только тронул задел Перстом косу ее.
И коса была серебряная льняная лунная а стала вновь золотая ржаная солнечная и от нее в ночном немом поле денный осиянный свет пошел изшел…
И Анастасия увидела что перст Его был в крови и сказала:
— Отче и на Твоих перстах земляника и малина лесная все текут. Не высохли.
И Он сказал:
— И не отпадут на Руси жалящие малиновые гвозди мои.
И новые прибудут прибавятся.
Но ты не стражди. Будут у тебя другие сыны.
И пойдут со мной.
И пошел на холм. И сокрылся в травах.
И Анастасия-Воскресенье-Русь матерь улыбалась.
И возвращенная ее коса ржаная золотистая сияла осиянная…
…Матерь… древляя моя… матерь… мама мати маа…
Аа…
…Сыне сынок… Тимофей… Поэт… С тобой я… Зде я…
…И мы стоим у алычового у азиатского куста?
И мы стоим у жасминового у русского куста?..
И текут дремливо спело ароматы сонные в уста…
Матерь!..
…Ты со мной?.. Ты пришла?..
…Да сыне Тимофей-Тимур… Поэт мой…
Но чу!.. Чу!.. Уран!.. Ты слышишь?..
…Ты слышишь ржание метанье блеянье белопенного молочнотелого раскосого разгонного коня?..
Ты слышишь вековое ржанье татарского гортанного монгольского военного Сэтэра-коня?..
И дрожит мается от крика этого русская извековая дрожь-душа.
И отсюда русская дрожь-душа побитая пошла?
И отсюда русская голь-раб-душа?
И отсюда русская воля душа плачет плачет плачет да рыдает навсегда да навека?..
Русь! И отсюда во вождях твоих дрожь смута война… Ай-да!..
Русь! на смерть айда!..
О Господи Русь — воля когда?..
Когда утихнет гинет канет ржанье дрожь мор пагуба татарского коня?..
О Господи когда?..
И грядет на Русь святая Чагониза Хакана Чингиз-хана кагана орда!.. Айда!.. Уран!.. Дзе! Дзе!.. Манатау!.. Карабура!.. Уйбас! Дюйт!.. Дух огня!.. Утт! Отт!..
Летит пылит дымит вопит на всю Русь на чисту сокровенну снежну Русь баранья овечья шаманная лунная пахучая падучая саранча сокол ворон червь барс шакал орда!..
Вся!..
…Сыне Тимофеюшко!.. И вот ведут влекут матерь твоея!..
И вот влекут нукеры татары матерь Анастасию-Русь в шатер дряхлого ветхого Чингиза убивца мудреца…
И рвут монголы со меня со плеч моих со грудей моих снежных ярый кумачовый новгородский деревенский самодельный тароватый сарафан…
И рвут сарафан и оттуда глядят как у кормилицы открытой напоенные груди спелыя снежныя сугробы снопы стога…
И глядят лебединые пуховые тяжкие баштанные груди моя…
И тучнее киевских обильных слив сосцы несметныя моя…
И влекут монголы татары охранники чагатаи псы волки кипчаки нукеры меня в Шатер Чингиза от грудей сосцов неслыханных моих закрыв убитые степные острые мышиные блаженные глаза…
И не вмещают глаза их…
И души их…
И Шатер Кагана едва вмещает едва впускает охраняет груди необъятныя моя!..
…Айда Каган!.. Айда Чингиз-хан!.. Айда! Уран!..
Да набегай да пробуй русскую несметную грудь хоть вся вся вся Орда!..
Айда! Орда!..
Да захлебнешься да забудешься да заблудишься в русских грядущих несметных урожайных грудях сосцах!..
Айда!.. Гляди — сама я гулевая разрываю сарафан!.. Айда!.. Хакан!..
Набегай налетай на тело ярое моея!..
И Хакан Чингиз в алом халате-чапане-дэле монгольском с рубиновыми пуговицами стоит в шатре ханском близ Анастасии-Руси!
И Хакан глядит во груди во сосцы ея млады наги но сам Хакан дряхл.
И ему семьдесят лун годов и он гладит груди урусутки Анастасии руками саксаульными солончаковыми…
Айда! Айда! Айда! Уран…
…Матерь матерь монгольская многодальная степная родная верблюдица белая сахарная моя матерь Огелэн-уджин иль ты пришла?..
И Хакан дремно сонно закрывает военные бескрайние соколиные глаза которые видели за три кочевья за три кочевых перехода дня…
И Хакан шепчет гробовыми хмельными пустынными устами губами:
— Дзе! Дзе! Да! да! да! да! да! матерь мертвая моя но ты пришла?
Но ты на реке травяной хрустальной родниковой на реке Ононе в Год Черной Лошади меня родила сотворила обронила понесла…
Но ты жива но ты из земли черных бесов мангусов неутешная невозвратная пришла?
Матерь! Огэлэн-уджин! Ты пришла!..
Ты груди избыточные давние материнские сосцы мне принесла?
…И Хакан приступает берет губами сонными губами солончаковыми сосцы Анастасии-Руси.
И воспоминает что ли он сосцы матери своей?
Воспоминает Хакан Чингиз дряхлый…
…Матерь Огэлэн а твои груди снежные избыточные а твои груди груди горлицы а твои груди белые куропатки Дэлигун-Болдаге гнезда аила моего? матерь?
А твои груди горлицы а твои груди кеклики куропатки а? а сосцы алые клювы а?
А почему они лежат в руках в губах моих а почему они не срываются не летят?
Матерь а почему в устах в руках моих не молоко не молозиво а камень а снег а лед а хлад?..
Матерь матерь почему святые твои горлицы кеклики не летят?.. а алые клювы не клюют а?..
Тогда Хакан Чингиз открывает хладные бледные глаза.
…Айда! Уран!
Айя! Уран! Уран!.. Урусутка!.. Дзе! Дзе!.. Карабура! Убайс! Дюйт!
Я Хакан а ты урусутка раба!..
Айда!..
Я дряхлый конь а ты кобылица кипчакская хмельная гонная полынная кумысная моя…
Но сосет берет теленок телка вымя мартовских кобыл избыточных степных! Утт! Учча! Утта!.. Айда!..