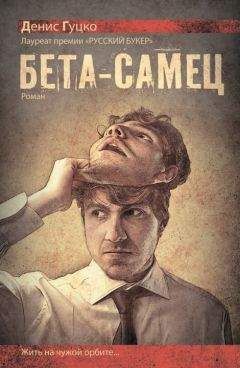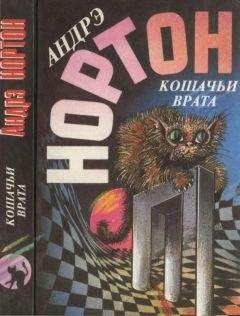Мне было лет двенадцать-тринадцать. Он взял меня с собой в «Кирпичик». Папа только что поставил «Чайку» — впервые поставил Чехова и был ослепительно счастлив.
В тот год он часто брал меня с собой в театр в дни представлений.
Мы приходили задолго до начала, отец расспрашивал у дежурного, кто из актеров на месте, и мы отправлялись на сцену осматривать декорации. Он взбегал по лестницам и мосткам, садился на скамейки, шумно хлопал дверьми. Со сцены — снова к дежурному, уточнить список пришедших и начать волноваться: опоздают ли те, кого еще нет, или явятся с минуты на минуту. В буфете мы съедали бутерброды с икрой минтая, отложенные специально для нас. Чай нам подавали в граненых стаканах с подстаканником — как в поезде. Отец при этом поглядывал на настенные часы. Чем ближе к началу представления, тем жарче раскалялся «Кирпичик». Иногда приключались скандалы, и кто-то бежал, оглушительно грохоча каблуками, и кричал, что не может работать в такой обстановке. Отец срывался на звук — и позже я находил его в компании хнычущей царицы, которой он обещал все уладить завтра же, или прогуливающимся под руку с угрюмым стражником, с картонной алебардой на плече. Иногда закулисье переполнялось беспечным оживлением, в гримерках раздавался смех, и отца приглашали «продезинфицировать инструмент». Папа неизменно отказывался — но они всё зазывали его и доказывали, что без дезинфекции нельзя не только в больнице, но и в театре. Когда все актеры были на месте и их брала в оборот баба Женя, мы с отцом перебирались за кулисы. Здесь он неизменно напоминал: «Только тихо». Впрочем, я и без того был тише воды и завороженно наблюдал, как папа управляет этой капризной махиной, выводя ее в единственно допустимую точку, в которой его актеры встретятся с его зрителями…
Мы стоим в правой кулисе, возле столика с горящей настольной лампой. Зал уже гудит, скоро начнется. Гарик Маркин, актер, играющий Сорина, хлопает себя по лбу.
— Что? — оборачиваясь, отрывисто роняет отец.
Будто выстреливает Маркину под ноги.
— Да трость забыл, Григорий Дмитриевич. На ту сторону заходил, к Лизе, на сундуке оставил.
Маркин собирается идти за тростью, отец его останавливает.
— Не возвращайся, ты что!
Поворачивается ко мне.
— Сходишь, сынок?
Все во мне сжимается. Мне страшно. Отзвучал третий звонок. А если я не найду? А если его трость кто-то унес? Маркин смотрит недоверчиво.
— Сходи, ты знаешь, — говорит папа спокойно, будто мы с ним дома и он просит подать ему карандаш со стола.
И я послушно отправляюсь в противоположную кулису за тростью.
Узкий темный проход между стеной и фанерной перегородкой, за которой — воспаленная тишина сцены. И вот уже пощелкивают, разгораются аплодисменты. С перепуга я готов припустить бегом, но тут вспоминаю, что выход Сорина — не в самом начале. Аплодисменты стихают, две тишины соприкасаются. Кто-то пробегает за перегородкой мимо меня, страшным шепотом командуя: «Давай!» Вдоль тонкой фанеры, равномерно обитой рейками, я дохожу до левой кулисы. Чьи-то пышные юбки, букли, порхнувшая на вешалку шаль. На блестящем горбатом сундуке трость. Хватаю трость, иду назад. За перегородкой только что начался спектакль.
— Отчего вы всегда ходите в черном?
— Это траур по моей жизни. Я несчастна.
Возвращаюсь, отдаю трость Маркину. Отец стоит тяжелый, окаменевший.
— Принес, пап, — шепчу я, становясь чуть поодаль.
— Ммм, — отзывается он, не оборачиваясь.
Никаких тебе «молодец» или «умница». Подумаешь, за тростью сходил. Я смотрю вместе с ним на сцену и отчаянно стараюсь сохранять невозмутимый вид. Хотя кто меня может здесь разглядеть?
Охотничий клуб назывался «Логово». Открывал его некто Долгушин, человек пришлый, из какого-то небольшого северного города. Говорили, у него серьезные связи в администрации. Какие именно, Топилин не знал. Антон не рассказывал. Но ожидалось присутствие губернатора.
Приглашение прислали задолго до ДТП, и Антон предложил визит не отменять. Прощупать между делом обстановку, выяснить, как широко слухи расползлись. Возле губера отметиться. Самое время. Топилин рассудил, что охота на уток поможет ему развеяться. И они отправились в «Логово».
Выряженный в тирольский костюм Долгушин в окружении двух грудастых фройлен встречал гостей на входе. Очень старался выглядеть простоватым и бесшабашно веселым. Метался от одного к другому, командовал: «Пива гостю!» Сбитый и округлый, в клетчатых бриджах и жилете, он напоминал шутовскую лимонку, влетевшую в толпу прохожих. Тирольское радушие давалось ему непросто. То и дело озирался, проверяя реакцию. Любореченцы реагировали кисло. Долгушин, очевидно, иначе представлял себе южан.
— Проходите, угощайтесь, господа! Ешьте-пейте, но рекомендую не забывать и о предстоящей охоте. Для этого и собрались. Подъем в полпятого, и это не шутка! Выдвигаемся строго в пять. Опоздавших не ждем, раненых не бросаем. Охота намечается — пальчики оближешь. Утки толстенные, сам видел.
Антона с Топилиным хозяин приветствовал несколько напряженно. Заметно было — силился вспомнить, кто такие. А ведь знакомил их сам Литвинов-старший. Не слишком хваток северянин. Не удосужился разобраться, кто есть кто в его новой среде обитания.
— Пойдем, Саша, вольемся.
Влиться, однако, не получилось. Компания была случайная, много незнакомых. Среди знакомых большинство из категории «привет-пока». Как только пристроились к столику возле каменных кабанов, восседающих по обе стороны крыльца, так сразу и замелькали вокруг нехорошие взгляды. Подходили, здоровались. Но разговоров не затевали. Был момент, когда группа гостей, расположившаяся на площадке перед трехэтажным корпусом «Логова», зыркнула на них синхронно.
— Знают, пидоры, — констатировал Антон, не опасаясь, что его услышат. — Повылупляли зенки свои. Вон тот, губастый, особенно любопытный.
Завелся, того и гляди пригласит губастого в сторонку.
Подошел его приятель Краловецкий, владелец «Любо-Лада», принялся участливо расспрашивать, похлопывать по плечу. Пошептавшись с ним, Антон немного успокоился. Даже помахал кому-то рукой.
Губернатор не приехал.
После приветственного бла-бла-бла Долгушин попросил гостей встать у него за спиной. Ему вынесли ружье, на край двора выкатили огромную бочку. Под удивленный вздох немногочисленных дам из бочки взмыла в воздух пятилитровая бутылка шампанского, Долгушин выстрелил, бутылка шлепнула пенистым плевком и рассыпалась по газонам. Собаки истошно залаяли.
— Добро пожаловать в «Логово»! — провозгласил Долгушин, перекрикивая собак. — Ни пуха нам ни пера!
Послышалось нестройное «к черту!», и в пропахшем близкими болотцами воздухе заструилась из развешенных повсюду динамиков легкая фортепьянная музыка. Гости пришли в движение, исследовали шведские столы. Кто-то переместился с тарелками внутрь дома, кто-то предпочел закусить на природе, некоторые отправились спать. Вечеринка напоминала кормежку в аэропортовском вип-зале во время затянувшейся задержки рейса.
Чьи-то собаки поцапались. Хозяева надели на них намордники и принялись делиться особенностями нрава своих питомцев:
— Мой с ума сходит, когда много народу.
— Мой ревнивец жуткий, к чужим псам не подходи.
После нескольких кружек пива Антон с недоброй улыбкой пустился курсировать от одной компании к другой. Везде перетягивал внимание на себя, шумно рассказывал какие-то истории. Топилин смотрел на Антона Литвинова и невольно прислушивался к себе: что-то там происходило. Пока неразборчивое.
Прихватив блюдо с виноградом, устроился на широких качелях чуть в стороне от площадки, на которой перетаптывалось-перешучивалось великосветское гуляние. Он был знаком со многими из присутствующих. Когда-то любил подержать в руке визитницу, нашпигованную важными именами — толстую, как обещанные на завтра утки. Каждой новой визитке подбирал подходящую ячейку, перетасовывал их, совершенствуя классификацию: чиновники, семьи, собратья-буржуи. Что ж, было… накрывало мелочным тщеславием с головой.
Ни с кем из них у Топилина не сложилось приятельских отношений. Удивлялся, как легко получается это у Антона. К концу фуршета, бывало, обнимается с новым знакомым, анекдот неприличный расскажет, пригласит в гости с чады и домочадцы. И все это вальяжно, с незапятнанным барством. Вот и сейчас — куда только подевались косые взгляды, мелькавшие буквально час назад? Улыбаются широко, смеются громко.
Антон всюду представлял Топилина как своего друга — старинного, армейского. На одну-две встречи хватало. Но стоило знакомству хоть сколь-нибудь затянуться, все скатывалось к привычному результату, и Топилина передвигали в дальний уголок с пометкой «человек Литвинова».
— А, какие люди!
Как бы ни довелось стоять, руку пожмут сначала Антону, потом ему — с остаточной улыбкой.