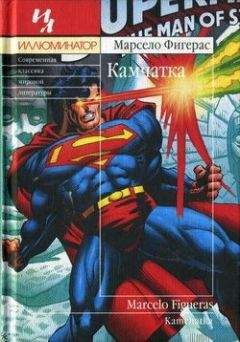10. Краткий экскурс в историю моей семьи
С папой мама познакомилась, уже будучи невестой другого. Из-за ее разрыва с женихом разразился семейный скандал. Но мама, хотя в тот момент она была еще не Женщиной-Скалой, а лишь скромным камушком в праще Давида, не сдавалась.
Она немедленно устроила ужин, чтобы представить папу всему клану своих родственников. Как гласит легенда, первого маминого жениха ее семья обожала. Но папа сумел блеснуть. Пришел, чинный-чинный, приготовившись сыграть роль многообещающего молодого адвоката (что, между прочим, полностью соответствовало действительности). То и дело упоминал о своих «процессах» и о собственной конторе, которую только что открыл в районе Трибуналес. К десерту атмосфера настолько потеплела, что мама и ее двоюродная сестра Ана вышли на середину комнаты и, взмахивая носовыми платочками, стали танцевать куэку или самбу – точно не помню, а папа сидел и покрикивал: «Поддайте жару!» Этим возгласом он окончательно всех пленил. Мамина родня вздохнула с облегчением: папа пришелся ко двору.
Через год сыграли свадьбу. Еще через год появился я. Если семейные предания не врут, меня вынашивали почти десять месяцев. Врачи ожидали, что мама родит в начале января. Наступило десятое (ее день рождения) – и ничегошеньки. Наступило двадцатое – никаких изменений. Все осмотры показывали, что я абсолютно здоров: нормально дышу, нормально развиваюсь в утробе. Тем не менее на исходе последнего дня января акушеры решили вызвать искусственные роды.
Папа всегда уверял, что медики просто ошиблись в вычислениях. Что ж, объяснение вполне логичное. Однако всякий раз, когда папа начинал отстаивать свою точку зрения, в его голосе прорывалось волнение, словно он интуитивно чувствовал: от непостижимого его отделяет только листок в медицинской карте, заполненный неразборчивым докторским почерком.
Что до меня, то я увлекся коллекционированием историй о нестандартных рождениях. Обычно им придают символический смысл. Например, Юлий Цезарь появился на свет благодаря ножу (его матери разрезали живот, откуда и пошел термин «кесарево сечение»), а затем – благодаря другому ножу – отправился в мартовские иды на тот свет. Афина Паллада в буквальном смысле причинила массу головной боли своему папаше Зевсу. Наверно, я мог бы увидеть какое-то знамение и в своем нежелании покидать материнское лоно, но что-то мне всегда подсознательно мешало. Как говорят кумушки: «До часу до времени никому ничего знать не дано». По мне, эта пословица – венец народной мудрости.
Спустя еще пять лет появился Гном. Если верить папе, своим зачатием он обязан безумной ночи, когда родители праздновали крупный выигрыш на скачках. По семейной легенде, папа впервые в жизни оказался на ипподроме – коллеги после заседания затащили. Внезапно его обуял азарт, и благодаря удачному почину он тут же возомнил себя знатоком. На моей памяти он больше не выигрывал. И прибавлений после рождения Гнома в нашем семействе больше не было.
Какое-то время я верил в связь между везением в игре и появлением детей (себя я воображал плодом выигрыша в покер и, соответственно, отпрыском королевского рода), а особенно в связь между скаковыми лошадьми и моим братцем. Я стоически терпел, когда он рвал мои комиксы, ломал мои машинки и самолеты. Так уж ему было на роду написано – даже родился он 29 апреля, на День животных.
Мой брат появился на свет под звериной звездой.
Мама пошла преподавать в университет и создала там какую-то организацию типа профсоюзной, которая в итоге победила на выборах. Ради мамы папа стал специализироваться на защите политзаключенных: что ни неделя, мама находила ему клиентов. Многие из тех, кого я называл дядьями, были мамиными товарищами по партии и профсоюзными активистами; некоторые успели отсидеть в тюрьме. Дядя Родольфо, например.
Поначалу папа протестовал против этого поворота к политике. Твердил маме, что она ему больше нравилась, когда читала романы Ги де Кара,[14] а не «Эль-Дескамисадо»[15] и всякие там труды с названиями типа «Нестабильность и хаос в системах с нелинейной динамикой». Но он лукавил. Я-то видел: о политике папа спорит с не меньшим жаром, чем мама. Папа принадлежал к тем, кто, усевшись смотреть новости, принимаются ругаться с телевизором, словно этот бездушный ящик может их услышать. А еще говорят, что шекспировские монологи – надуманные и высокопарные. Ну-ну. Гамлет разговаривал с черепом, а папа – с телевизором: разница чисто внешняя.
Был период, совпавший с эпохой дядьев, когда родители таскали нас с Гномом на все демонстрации. Нам это нравилось: какой-нибудь дядя всегда поднимал нас над толпой или сажал к себе на шею и угощал лимонадом или конфетами, мы пели песни и скандировали речевки, за которые нас очень уважали в школе: «Слава оппозиции и позор полиции» и все такое прочее; вдобавок на демонстрациях все, казалось, друг друга знали и настроение у всех было приподнятое, а радость, как известно, заразительна.
Первое время папа не одобрял политику открытых дверей, проводимую мамой в нашем доме. Но в итоге смирился. Отчасти потому, что мама его тоже подкалывала – называла реакционным юристом и чернильной душой, говорила – это в нем мещанская благовоспитанность никак не уймется, «пай-мальчик, все для блезира, все ради лоска», как поется в танго. Папа смирился: он верил, что служит делу справедливости, да к тому же дядья были ему симпатичны; он угощал их пивом, разговаривал с ними о фаворитах, ставках и комбинациях и вскипал от бешенства, если у кого-нибудь возникали проблемы с полицией или с «Тройной А» (согласно официальному наименованию, «Аргентинским антикоммунистическим альянсом», а в папиной любимой расшифровке – «Аргентинским античеловеческим альянсом»), если маминых товарищей избивали или сажали в тюрьму.
Однажды папа сказал мне, что дядя Родольфо умер. Не хочу ли я пойти с ним проститься? Когда дядя Раймундо спросил, где я живу, я ему соврал. Неподалеку от Боки, сказал я.
Приоткрыв дверь класса, мама спросила:
– Можно к вам?
На ней был темно-синий костюм, мой любимый, – он подчеркивал ее осиную талию. Как всегда, в руке у нее дымилась сигарета. Курение без передышки – единственная черта безумного ученого из комиксов, которая ассоциировалась у меня с мамой, ассоциировалась даже прочнее, чем ее склонность объяснять все на языке физики и видеть в футбольном матче только сложное взаимодействие тел, сопротивлений, векторов и энергий. На красных пачках своих любимых сигарет «Жокей-клуб» мама записывала на память все-все-все, от телефонов до формул, а потом забывала и выбрасывала пачки в урну. Таков был закон ее жизни, непреложный, как законы Ньютона.
Сеньорита Барбеито выключила кинопроектор и отошла пошушукаться с мамой. Я воспользовался этим чудесным происшествием и бросил отгадывать слово, задуманное Бертуччо (еще одна ошибка – и я висельник). Как интересно! Почему мама здесь? В это время ей положено быть в лаборатории. Может, ехала в банк и по дороге решила заглянуть к учительнице?
– Собирай учебники: я тебя отпускаю, – сказала мне сеньорита Барбеито.
Я со сдержанным торжеством поднял кулак и начал перекладывать все со стола в портфель. Бертуччо скривился: мама отняла у него победу.
Вписав недостающие буквы, он спросил:
– Чем сегодня вечером займемся?
– Да как обычно, – ответил я. – После английского приду к тебе.
– Мама приготовит миланесы,[16] – объявил Бертуччо. Он нутром чуял: перед этим искушением я бессилен. Если дедушкину фразу можно сделать еще красивее, я скажу: Бог – он в деталях и в миланесах мамы Бертуччо.
Бертуччо вручил мне листок со словом.
На нем уже не значилось А – А – А – А – А.
Ответ был прост и изящен. Более того, волшебен.
Бертуччо загадал слово «абракадабра».
Тут необходимо набросать портрет машины, на которой мы совершили побег из города. Обычно при слове «ситроен» воображение рисует элегантный автомобиль на парижской улице, непременно с Триумфальной аркой на заднем плане. «Ситроены», которые можно было увидеть в Аргентине в 1976-м, тоже были произведены во Франции, но походили на традиционную продукцию этой фирмы не больше, чем Росинант на Буцефала.
Начать хотя бы с кузова. В профиле нашего «ситроена» чувствовалось легкое сходство с обтекаемой формой классического «фольксвагена-жука»: к полукругу, в который вписаны салон и багажник, спереди прилеплен полукруг поменьше, внутри которого расположен двигатель. Но сходство было обманчиво. «Фольксваген» впечатляет своей прочностью и солидностью – сразу видно, немецкое качество, – наш же «ситроен» выглядел хлипким, как игрушка.
Все дело было в металле, из которого изготовлялся кузов. Врезавшись в заурядный забор, «жук» пробил бы его насквозь, а вот «ситроен» сложился бы, как меха аккордеона, – бери да наигрывай «La vie en rose».[17] Крыша тоже была несолидная – из брезента. Не сравнивайте ее с раздвижными крышами европейских кабриолетов. Наша крыша держалась на крючках. При желании ее можно было отстегнуть и свернуть в рулон.