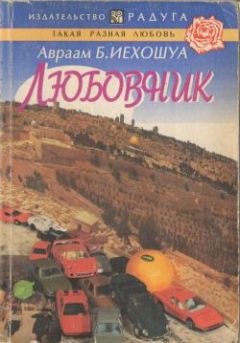— Это приятные новости… сударь… милые факты. Я давным-давно простился с надеждой услышать что-нибудь подобное, это же превосходные новости! — заключил инспектор осипшим от утробного смеха голосом.
Изумление Ардити было таково, что он не мог ни охнуть, ни вздохнуть. Его серые глаза горели нездешним светом.
— Приятные? — шепнули его губы.
— Разумеется, — отозвался инспектор и пронзил Ардити острым взглядом. — Чему здесь так уж удивляться? Гордецу, что несется, начищенный, по путям? А здесь — забытая деревня, никому не нужная, как эти ваши дурацкие белые скалы по дороге.
Ардити был подавлен таким ответом.
Инспектор вновь занялся перевариванием этой огромной, масштабной затеи.
— Идея большая, — сказал он как бы сам себе и тут же метнул в меня испытующий взгляд. — Вот ведь он молодой еще человек, а мыслит очень перспективно. — Я улыбнулся ему подобострастно, мерзкий смешок сорвался с моих губ.
Но он, по-видимому, понял меня правильно, указал в мою сторону коротким и жирным пальцем. — Для значительного дела он создан. Для значительного.
Польщенный доверием начальства, я опустил глаза, взглянул искоса на Ардити — его как током било отчаяние, он лепетал что-то невнятное, его взволнованный голос скрежетал, как кровельное железо на ветру.
Усталость господина Кнаута взяла верх над дисциплиной, к которой он привык за все свои долгие трудовые годы. Съежившись в пиджаке и втянув голову в плечи, он угрюмо прервал бормочущего Ардити:
— Пусть сударь сделает мне одолжение, хоть раз… явит мне милость… — с этими словами он впал в мимолетную дрему.
И снова молчание в комнате. Мы с Ардити озабочены состоянием здоровья нашего хозяина. Наше беспокойство сообщилось начальнику, его ресницы дрогнули, глаза раскрылись, и он, взглянув на большие ручные часы, заставил себя пробудиться для насущных забот мира. Но что уж и вовсе странно, он вдруг обратил свое благосклонное внимание на затравленного старика и улыбнулся ему усталой улыбкой всепрощения. Ардити затрепетал от благодарности и с упорством фанатика бросился снова задавать свои бредовые вопросы:
— А главная обязанность, господин, моя ежедневная обязанность?
Господин поднялся, стряхнул остатки сна с глаз и шагнул к старику, который, как солдат, вытянулся ему навстречу, и своей мясистой рукой схватил Ардити за полинялую пуговицу, что свисала с потрепанной форменной куртки; притянув его к себе силой, он что-то стал шептать ему; Ардити, слушая начальника, склонялся все ниже, словно на глазах уменьшался в росте.
— Что вдруг пришло тебе на ум вспоминать об обязанностях? Понимаешь ли ты, что они тебе уже не по плечу? И несмотря на всю твою преданность делу и верность начальству, ты найдешь себя в один из чудесных дней подыхающим на пороге станции, и никого рядом с тобой не будет, никого! И скорый поезд промчится перед твоими погасшими глазами, и никто не удостоит тебя и взглядом сострадания, и это после того, как ты изо дня в день стерег и оберегал всех…
Ардити дрожащими пяльцами вцепился в свои курчавые волосы, но руки его ослабли и плетьми упали вниз. Воцарилась тишина. Лицо господина внезапно приняло грозный вид, он подался к двери, распахнул ее во всю ширь. В комнату ворвались вихри ветра. Буря разбушевалась вовсю. Действительно, нам предстоял тяжелый, изматывающий день. Я заслонился рукой от ветра, который раскачивал Ардити, как китайского болванчика, из стороны в сторону. Только господин коротышка без усилий мог стоять против ветра и, торжествуя, глядеть на пустую платформу. Неожиданно он обратился к Ардити, бодрый его голос уносился вдаль на крыльях бури:
— Грандиозная буря… Живем! Гип-гип ура! И пока не исчезнет туман, у нас есть грандиозный шанс… Мы можем проявить всю свою ответственность! Взять судьбу в свои руки! Вечером я примчусь сюда на крыльях бури, сегодня вечером, дружище Ардити!
С этими словами он схватил Ардити за руку и от всего сердца потряс ее, мне он подмигнул в знак одобрения и, как шлюпка в бурном море, поплыл к поджидающей его дрезине, пальто шлейфом волочилось за ним, его трепал вихрь, но никакой вихрь не мог оторвать его от хозяина, оно упорно следовало за ним; а он оседлал свой транспорт, двинул его мощной рукой и в считанные секунды скрылся за поворотом.
Ардити как изваяние сидел на прежнем месте, и, хотя ваятель испарился, тень его витала в комнате и Ардити все еще был связан тесными узами с уважаемой тенью. Я взглянул на пустое кресло у стола. Проскользнув змеей к столу начальника станции, я взгромоздился на кресло, свился в нем в клубок; оно еще хранило в себе суровое тепло начальственного тела. Постепенно я расслабился, выпростал ноги и потянулся. По телу пробежал холод, застучали зубы. Чтобы хоть как-то обогреться, я вплотную придвинул кресло к столу. С затаенной печалью во взоре наблюдал Ардити за мной и моими действиями, ему хотелось поговорить со мной; да и я был бы не прочь перекинуться с ним словцом, но нас удерживало то, что мы уже переговорили обо всем, о чем только можно при нашей монотонной, изо дня в день повторяющейся службе, при нашей тревоге, которую нельзя унять словами. Я расселся в кресле. Сомкнул любопытные очи, уронил голову на грудь, успокоил все свои желания; не прошло и минуты, как я уже дремал под вой бури, кружащейся и грохочущей в горах.
6
Уроки закончились, и дети, по шею закутанные в длинные пальто, сошли к колодцу. Одним лишь усилием воли госпоже Шрире удалось поднять жалюзи на окне, выходящем к мосту; ветер пытался снести с балкона легкие соломенные стулья. К 6 часам все окна, выходящие на пути, были открыты, и из них высунулись закутанные головы. Ватага девушек и юношей подоспела к назначенному часу, Дардиши пристроился рядышком с ними.
В 6 часов 10 минут завершилось заседание совета деревни, Бердон пнул дверь ботинком и первым вышел наружу. Трудно далось рабочим шахты восхождение на вершину горы, усталая лошадь перла наперерез бушующей буре, но на последнем витке порыв ветра обуздал ее, и она стала, склоненная, на откосе. В тумане едва можно было различить пятерых рабочих, возвращавшихся со строительства плотины, они медленно продвигались вперед. Окна больного Эхуди распахнул ветер, рамы стукнули о стену дома. И уже спустился Мешулам-сирота босиком на мост, подложил старые железяки на влажные рельсы. Запоздалый окрик его тетки пронесся в воздухе. Все заняли свои места. Стрелка часов передвинулась, предвещая традиционный выход Ардити. Зива спешит ко мне, на ней тонкое платье, и она дрожит от холода. Два рычага по-прежнему на месте, а Ардити нет как нет, и робкий ропот расходится по деревне, кишащей людьми. Взгляды всех устремлены на осиротевшую платформу, на два стальных рычага.
Солнце, пробивающееся сквозь плывущие облака, залило гору красным сиянием. Где-то там, над бурей, над шквальными ветрами, занимается спокойный закат. Свет слепит Зиву, и она прикладывает ладонь козырьком ко лбу, устремляет взгляд на взбудораженную деревню. «Ардити не вышел сегодня! Не вышел сегодня!” — звенят радостные голоса, прорывают толщу тумана; благословенный туман, он снимает со всех ответственность за то, что сейчас произойдет у моста. 6 часов 25 минут. Сейчас или никогда. Зива бросается к красному флагу, лежащему, как водится, на земле, быстро развязывает на нем веревку, расправляет его. Мои глаза тщетно ищут Ардити, дом станционного смотрителя безмолвствует. Вдалеке раздается гудок, поезд катится по горам с таким видом, словно он не к нам едет и не в наши руки сейчас упадет. Зива вставляет мне в ладонь красный флаг, я спешу опустить старый флаг, зеленый; я держу новый флаг в обеих руках и машу им в сторону деревни. Народное ликование, его неслаженный гул уносится ветром ввысь и стихает, люди остаются стоять на местах как вкопанные. Глаза их поблескивают в тумане, как железнодорожные рельсы у моста, — только бы не пропустить ни мельчайшей подробности. Неожиданно небеса мрачнеют, словно бы решают в наказание лишить деревню заката, темнота надвигается стремительно, плотный туман низко ложится над землей; напоенный густой небесной влагой, он смягчает горечь разлуки с последними мгновениями света. Гудок поезда теперь отчетливей слышен с соседних гор, стремительный и гневный, и его эхо предвещает появление поезда. Вопреки заведенному обычаю, я взбираюсь на камень и высоко подымаю красный флаг, сигнал опасности. Одним махом прорывает паровоз завесу тумана, огибает на полном ходу последний поворот. Прям его путь к нам, ритмичны удары колес по искрящимся рельсам, многозвучен его могучий ход, послушна ему вереница вагонов, слитных, словно приклеенных друг к другу. Два пучка слабого света от лобовых фар паровоза высвечивают туман, прокладывая путь движению поезда. Они красивы, как закатные лучи. Голова Зивы склонена, глаза широко раскрыты, усмешка замерла на ее лице. Красный флаг вот-вот разорвется на части под напором ветра. Скучающий машинист видит меня и не может понять, что происходит. Он тотчас гудит в знак протеста, но я продолжаю тупо размахивать красным флагом. Луч солнца внезапно прорезает заслон облаков и отражается на лобовом стекле паровоза. Надо мной — перепуганное лицо паровозного машиниста. Паровоз меж тем сходит со своей колеи, пролетает рядом со мной и со страшным грохотом несется прямо на рельсы Ятира, на наши короткие пути. Колеса остервенело колотят по воздуху, вагоны один за другим перебегают на заброшенную колею, на ржавые, замшелые рельсы, колеса подпрыгивают и стучат, как отбойные молотки. Крики счастья взмывают ввысь: «К нам! Они едут к нам! По нашим рельсам!» Но мы так малы и ничтожны, куда нам удержать такую махину счастья, что обрушилась на нас. Конец пути обозначен заслоном из бревен, они несутся навстречу паровозу, делающему последние попытки остановить этот дьявольский галоп. В стремительном отчаянье паровоз несется к тупику, мощным ударом бампера врезается в заслон, крушит бревна и, раскачиваясь, сходит с рельсов. Как тяжело раненное животное, потерявшее равновесие, состав заваливается набок и летит в чашу пропасти, доверху наполненную туманом. Жители деревни вскакивают, простирают руки к пропасти, они вопят и стенают, они оплакивают поезд, что погиб сейчас, вот только что, на их глазах. Не спасти им поезда, ведь все его вагоны неразрывно связаны друг с другом. Один за другим они сходят с рельсов, расшибаются друг об друга, сплющиваются, перекореживаются, сминаются в лепешку и превращаются в груду металлолома. И все это падает на наши утесы, на наши гранитные скалы, на наши остриями торчащие, всей гневной природой отверженные дома. Но вот все стихло, и зыбкая тишина поплыла на глыбах тумана к новым сумеркам.