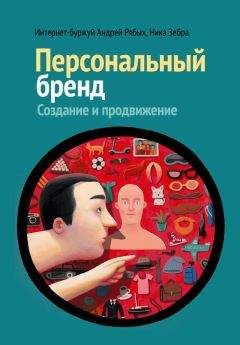Дворовые люди мылись по несколько раз в день, натирались по настоянию барыни вонючими мазями, убивающими микробы. Денег на дезинфекцию Блоха не жалела. В комнатах и коридорах стоял запах хлорки, карболки и прочих заграничных веществ. Форточки были закрыты сетками от насекомых.
Пошли в сарай за велосипедом, и там Вадим показал мне застекленные деревянные носилки, в которых дворовые мужики носили Блоху по улицам села во время эпидемий.
Барыня принимала множество выписанных из-за границы “невротических” порошков, от которых у нее всегда был сонный вид. Спала Блоха до вечера, – боже упаси разбудить ее грохотом телеги или звяканьем посуды! Конюхи обвязывали копыта лошадей тряпками, иначе порка неминуема. Вся живность, чтобы не было от нее шума, была переведена подальше от барского дома.
Уже в сумерках Блоха завтракала, гуляла, читала книги, играла на пианино. Дворовый люд приспособился к ночной жизни Блохи, днем слуги отсыпались, зато ночь напролет хлопотали, выполняя капризы барыни, стараясь быть незаметными и услужливыми.
Несмотря на беспрерывную заботу о своем здоровье, умерла Блоха от инсульта или, как говорил дворовый люд, “кондратий матушку хватил!”
“Сейчас я отдам тебе свой велосипед!” – весело воскликнул Вадим.
Вадим снял со стены велосипед “Орлёнок”, почти совсем новый, поставил его на пол:
– Вот, катайся на здоровье!
Я торопливо схватил пыльный велосипед, вывел его на улицу и, не оглянувшись на Вадима, забыв даже сказать ему “спасибо”, помчался с холма вниз по утоптанной, растрескавшейся от жары тропинке.
“Орлёнок” – чудо техники тех лет! Сверкают никелированные ободья и спицы, гнутый руль с подрагивающим звонком устремлен вперед, шины шуршат по земле, весело повизгивают на песчинках и камешках. Мне казалось, что я вырвался на этом летящем с горы “Орлёнке” в какую-то другую, почти взрослую жизнь…
Вскоре отец написал заявление по собственному желанию. Дома жаловался:
“Прохор Самсонович пьет больше меня, и ничего ему – всегда бодрый, лицо красное, сала может съесть сколько угодно. Вот это мужичара!”
Я часто сбегаю из редакции на пруд – поплавать в нагревшейся за день воде. Во второй половине дня она дышит влажно и духовито, искрится на фоне глиняной косы.
Стриж работает грузчиком на железнодорожной станции, но трудится, видимо, тоже не очень усердно. До четырех вечера он свободен. К
Стрижу плохо прилипает загар, кожа красная от солнца, оползает чешуйками. Худое тело изрисовано татуировками, будто синькой обрызгано. Живет Стриж один, в доме, оставшемся от матери, которая умерла в тот же год, когда его осудили. Ему за пятьдесят, но выглядит он моложаво: почти не седой, костлявый и жилистый. Лицо задумчивое, с острыми чертами, но вида совсем не преступного, хотя и запечатлелось на нем то особое выражение человека, который долгие годы провел за решеткой. Здешний народ думал, что с началом перестройки Стриж подастся в бандиты, однако он вел себя тихо, ни с кем не связывался.
Лежит в тени прибрежного дерева, глаза закрыты, на лице сонная улыбка, в полуоткрытом рту мерцают коронки. И какая-то постоянная виноватость в его облике, вялые сонные движения, медлительная походка. Даже выигрывая у меня или у Игоря в шахматы, Стриж всякий раз конфузится, разводит руками: так, дескать, получилось.
В шахматных баталиях Стриж неизменный победитель, хотя есть и другие сильные игроки. Мы с Игорем в местном рейтинге на третьих-пятых местах.
Подремав, Стриж берет коробку с аккуратно нарисованными белыми и черными клетками, вытряхивает на траву самодельные фигурки. Лица королей имеют высокомерное выражение, королевы похожи на деревенских бабёнок, пешки, кажется, вот-вот заплачут. Зато кони веселые, с глуповатыми мордашками.
На пальце правой руки у Стрижа самодельный перстень из нержавейки с ярко-красным камнем, грубо вделанным в оправу.
Стриж часто купается в пруду, подолгу плавает. Достигнув середины пруда, ложится на спину. Вода, подернутая рябью, уверенно держит его, дробятся солнечные искры. Стриж лежит на спине, дремлет на воде, как на перине. Рыбка рядом плеснет, а он даже не вздрогнет.
Однажды я подплыл к нему, с тревогой взглянул в белое, покачивающееся на воде лицо: шевельнулись синие, как у мертвеца, губы. Лениво приоткрыл глаза, вздохнул, блеснула железнозубая улыбка.
“Он все-таки мог убить человека!” – невольно подумал я, глядя на сверкающие под солнцем коронки.
Выйдя на берег, Стриж ложится на расстеленную одежду и вновь спит, словно всю жизнь бодрствовал, а теперь получил возможность отдохнуть.
На другом берегу одинокий комбайн домолачивает делянку белой от жары пшеницы. Пыль тучей окутывает комбайн, он в ней полностью скрывается. Машина на минуту останавливается, серое облако уползает в лесополосу, налипает на листья, деревья серые, будто карандашом нарисованы.
Зачем-то приехал на пару дней Вадим – папаша Игоря. Проведать отца?
Непохоже. Вадим годами не появлялся в отцовском доме – все больше по заграницам путешествует. Сегодня он зачем-то пришел на пруд, как раз в тот момент, когда мы с Игорем увлеченно сражались в шахматы.
Все, кто собрался в этот воскресный день на песчаном пятачке, с удивлением разглядывают знаменитого олигарха. Богач, а с виду простой. Вот что значит земляк!
Вадим постарел и, несмотря на популярность, не все жители поселка при встречах его узнают. Чаще Вадим первый протягивает знакомым руку и называет себя какому-нибудь позабывшему его старику, который с изумлением всматривается в него поблекшими глазами.
На пруд Вадим пришел без видимой охраны: коренастый, в джинсовом костюме, беспрестанно улыбаясь, со столичным умеренным животиком, голова седая, с большими залысинами. Разделся до пестрых трусов, одежду бросил на траву. Голые ноги его казались тощими. Картежники, сидевшие чуть поодаль, ухмылялись:
– Это не мильянер, а хмырь какой-то…
Сын по сравнению с папашей – загорелая античная статуя.
Игорь продолжал передвигать шахматные фигуры, словно бы не замечая появления отца.
– Как же вы купаетесь в таком грязном пруду? – удивленно озирался Вадим.
– А где нам еще купаться? – сердито отозвался кто-то из картежников.
– Тут бассейнов нету…
Вадим подошел к нашей компании, со всеми поздоровался за руку.
Стриж, помедлив, протянул Вадиму длинную, словно дощечка, ладонь.
Солнце сельской юности ласково играло на заплывших жирком плечах олигарха. Поежившись, Вадим нарочито взвизгнул, нырнул в зеленую глубину. Плескался на мелководье, радовался, как ребенок, горстями зачерпывал со дна ил, намазывал им волосатую грудь.
Чернильного оттенка сгустки шмякались с его плеч в воду.
– Ура – грязь!.. – звенело над водой, деревья отзывались эхом, глянцевая листва лозин блестела ярче солнца, дробящегося в ряби волн.
Снова нырнул, вразмашку, сильными движениями коротких рук поплыл на середину пруда. Вода вокруг него была такая же, как и тридцать лет назад, если не обращать внимания на цвет и запах, она нежно ворковала возле ушей, плескала в нос, в глаза, обнимала очищающей прохладой.
Картежники перестали играть, смотрели на Вадима.
ГОЛОСА:
– Тот самый?..
– Да, наш знаменитый олигарх…
– А почему без охраны?..
– Как же без охраны: вон какой-то мужик ходит по плотине…
– Вадима в Москве несколько раз пытались взорвать…
– Взорвешь такого осторожного…
– Всякий раз он ухитрялся оказаться в другой машине – по телику показывали…
– К отцу приехал…
– Бабка ихняя давно чокнулась, в дурдом хотели отправить, Прохор
Самсоныч не разрешил…
– Простачком смотрится этот Вадим…
– Он может себе это позволить…
– Гляди, Стриж плывет ему навстречу…
– Еще бы: в молодости вместе человека ухлопали. Прохор Самсоныч выгородил сыночка, а Стриж загремел на двенадцать лет…
…
Стриж зашел в воду, поплыл в центр пруда. Встретившись на середине с
Вадимом, начал что-то ему говорить.
Я тем временем сделал коварный ход слоном, после которого ферзь
Игоря оказывался в ловушке.
Две головы над водой: одна маленькая, ершистая, вторая круглая, глянцево сверкающая. Сблизились, словно персонажи детективного фильма, которым приспичило вести секретную беседу посреди водохранилища. Головы мелькали в волнах, терялись в бликах света, болтались, как поплавки.
ГОЛОСА:
– Возьмет да и назначит Стрижа каким-нибудь министром!..
– В Москве своих начальников хватает…
– Что ни говори, а Стриж всю вину за то дело взял на себя…
– О каком деле идет речь?
– Бытовая мокруха…
– Когда-то об этом весь поселок говорил…
– Участковый знал, кто того парня грохнул, однако ничего не сказал…
– Это же Гладкий, старый лис…