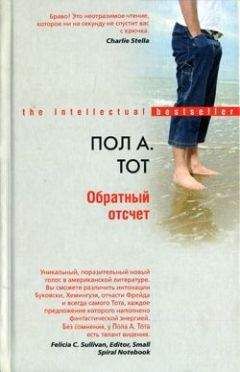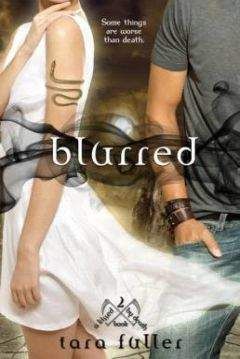Рози удерживала меня на месте, а я был в нашей хижине несущей балкой. Возможно, после моего отъезда она обнаружит, что крыша течет.
– Рози никуда не денется, – сказал я себе, стараясь усмирить собственную фантазию.
Переночевал я в маленьком мотеле у хайвея. Люблю отели… особняки для путешественников с горничными и дворецким за стойкой. Мотели – временные гетто, полные домашней грязи и пыли. Снял бы номер в отеле, но не мог себе позволить с такими деньгами в бумажнике, по крайней мере, пока не выяснится, сколько продлится мое путешествие. Постель, в которой я теперь спал, постелила Рози. Хорошо, что у меня нет с собой микроскопа.
Я забрался под покрывало и впервые за многие годы почувствовал себя в кровати просторней, чем надо. Без Рози она превратилась в первоклассную пустую хижину. Обычно я лежал к ней спиной, держась одной рукой за край матраса, памятуя о тяготении, словно гимнаст. Порой она переворачивалась, сталкивая меня с гимнастического бревна. Я тащился к дивану, окруженному ореолом бессонницы. Теперь кровать в мотеле стала тем самым диваном, одиноким, безлюдным. Как бывший олимпийский гимнаст, я понятия не имел, что с собой теперь делать.
Покосился на телефон. Ясно – Рози звонить не надо. Если ее разбудишь, она возопит с отчаянным гневом Иова:
Поднимайтесь в гору, дети,
Здесь не оставайтесь ни за что на свете.
Если нам с Томом не встретиться уж никогда,
Я посмотрю в день Страшного суда,
Как Джон Томас жарится у вечного огня,
Молится, криком кричит, вспоминая меня,
А Господь милосердный подбрасывает угля.
Ох, это будет великий день!
Господи, мать твою, великий день!
Дядя Том попадет в львиное логово, продолжая молитву,
Ангелы Господни откроют львам пасти, благословив на битву.
Ох, это будет великий день!
Господи, мать твою, великий день!..
Мне были хорошо известны эти переписанные стихи. Сто раз слышал, как она их распевала.
Поэтому превратился в собственного сержанта, обучившись этому искусству на заводе. Когда меня под железным небом сверлил в ритме вуду индустриальный шум черной мессы, я повторял про себя: «А ну-ка, рядовой, шагом, шагом, кругом, иначе получишь пинок в зад сапогом!» Если не помогало, перемешивал в голове мысли столовой ложкой, изо всех сил вспоминая стих, заученный дома по книжке:
Вперед, пахарь, и помни, что надо без страха и лени
Пахать ради будущих поколений.
Не медли, не оглядывайся, смотри, что впереди,
Глубже, прямее борозду веди!
Я вспоминал его, борясь с желанием звякнуть Рози. Вспоминал и предчувствие, будто бы с увольнением с завода все мои беды кончатся. Наверняка каждый мечтает радостно плыть по залитой солнцем речке под тихое пение юных сирен. Потом о дрейфующей в лагуне яхте, свадьбе на борту. Потом о плоте, где нет места супружеской паре, который снова выплывает из бурных вод в тихие. В заключение о корабле на пенсионном якоре, где не допускается никаких игр рискованнее шаффлборда.[9] До той самой реки все стремятся добраться, пока не умрут, потому что, в какую бы даль ни заехал, как бы ни стремился, до нее остается множество миль, как будто она старается уклониться от встречи.
Позвонить? Разумеется. Но не Рози, а матери. Она по-прежнему живет в Мичигане, на севере, куда умчалась после исчезновения моего отца, в городке с винным магазином и церковью. Ей больше ничего не нужно, кроме церкви для покаяния в воскресное утро и винного магазина для семи вечеров в неделю. Из-за разницы во времени не должна еще спать. Поэтому я набрал номер.
– Ал-ло-о, – протянула она до того неразборчиво, что стало безоговорочно ясно: в дым пьяная.
Я отдавал себе отчет, что по мичиганскому времени звоню после заката, служившего выстрелом стартового пистолета, которому она повиновалась настолько беспрекословно, что в летние месяцы опрокидывала первую рюмку не раньше десяти вечера, даже если ее уже всю трясло.
Зачем звоню – за утешением? Не может она меня утешить. Мать стояла на стороне политиков, настаивавших на новом вторжении во Вьетнам, и просто ради собственного удовольствия уничтожила бы весь вьетнамский народ вместе с китайцами, японцами и корейцами. Держала в позолоченной урне пепел сожженного вьетнамского флага.
– А-а-л-ло-о…
У меня чуть раскосые азиатские глаза. Странный мальчик. Остался безымянным на попечении так называемой матери, когда отец вместе с Сан покинул штат Мичиган и исчез. Вернувшись в США, отец ушел со службы в самоволку. Может, они во Вьетнаме, а может быть, в Калифорнии. Остается гадать, мать ли его довела, или он довел ее до сумасшествия. Я был просто очередным снесенным яйцом, причем меня высиживали и петух, и курочка. Только им известен ответ на один загадочный вопрос.
Война с матерью иногда озадачивала меня. Казалось, будто под известной причиной скрывается другая, которую я не помню и не желаю отыскивать. Надеюсь, что эта война не имеет никакого смысла вместе со всеми другими крупномасштабными войнами, происходящими в мире. В отличие от большинства людей меня очень радует, что жизнь не имеет ни смысла, ни ритма, пространство и время представляют собою бессмысленное открытое игровое поле. Когда-нибудь внедрюсь в геометрию и исчезну. Хорошо бы, чтоб кто-нибудь до тех пор пригвоздил ступни к полу, и я встал как скала.
– Кто-о-о это-о-о?
Может быть, она думает, будто отец в конце концов опомнился и вернулся домой? Будем надеяться. Или думает, что я звоню просить прощения? Уже лучше. Или думает, будто звонит моя родная мать, Сан, предупреждая о движущемся с Востока тайфуне кун-фу, который окончательно очистит мир от империалистической американской агрессии мнимой матери?
– Знаю, кто ты, – объявила она. – Это ты.
Я бросил трубку. Пускай ее слова остаются нераспечатанным подарком, который больше ценится не за содержимое, а за личность дарителя. Тщательно сберег обертку – старое пьяное мстительное бормотание.
– Спокойной тебе ночи, приятного сна, – пожелал бы я, если б сумел изменить голос до неузнаваемости. – Отдай себя клопам на съедение.
А как только зазвонил телефон, вспомнил о том, о чем позабыл, – у нее аппарат с определителем. Зажмурился, мысленно видя гигантские разношенные тапки, в которых она вечно топталась по дому, слыша проклятия, шелест страниц телефонного справочника, где отыскивался номер мотеля, заданный телефонистке вопрос, уточняющий код Калифорнии. Значит, догадалась. Значит, поняла.
Телефон замолчал и опять зазвонил, продолжая трезвонить всю ночь по десять раз через каждые десять минут.
Не способный заснуть, я вспоминал свое детство. Что касается Сан, никогда меня не тяготили злобные издевательства других детей насчет моей родной гавани, потому что она не осталась в порту. Что-то ей не позволило стать моей матерью, и очень хорошо, что она это признала. Впрочем, лучше бы меня оставили где-нибудь в другом месте – на автомобильной стоянке, за мусорным контейнером, где угодно, только не у матери.
Отчасти они могли возложить вину на нее. Насколько мне известно, мать, кроме выпивки, успевала сделать очень много, и, наверно, отец вместе с Сан, словно грипп, подхватили от нее привычку торопиться. Или, как она обычно заявляла в своих монологах после захода солнца: «Косоглазая сучка явилась сюда сияющая, как стеклышко, а теперь уже не так светится, и сама это знает». Но судьба Сан никогда не была слишком светлой. Судя по рассказам матери, до встречи с отцом ее краем задело облако напалма.
Возможно, отец с Сан исчезли, чтобы избавиться от привычных представлений. Воображаю, как бедная Сан умывается после гонки по грязному сельскому Среднему Западу, недоумевая, почему все мечтают попасть в Америку. Может быть, нашли место, где ей это стало понятней, может, навсегда покинули Штаты. Я знаю, что армейское начальство где-то потеряло их след. Наверно, живут где-нибудь под другими фамилиями. Хорошо понимаю, до чего заманчиво исчезновение, жизнь под прикрытием новой легенды, пока даже образы не испарятся. А мой остается – за ним стоит тень.
Припомнились рассказы, которые мать мне в детстве рассказывала на ночь – Откровение Святого Иоанна, подпорченное спиртным и безграмотностью. «Настанет день, когда огонь небесный очистит мир от косоглазых, евреев и арабов. А потом, мой мальчик, ты поскачешь на бледном коне сквозь огонь прямо на небеса».
Как-то сомнительно.
На следующее утро телефон все звонил. Отключить его было нельзя: розетку прикрывала коробка, привинченная к стене. Звонок выключить тоже возможности не было. Я попробовал просто снять трубку и положить на столик, но голос телефонистки загремел еще громче звонка: «Если желаете набрать номер, положите трубку и перезвоните». Сквозь звонки и подушку, наброшенную на голову, едва слышались крики соседа: «Ты дождешься, что я засуну чертов телефон тебе в задницу!» И дальше: «Немедленно выключи, черт побери! Выключи, выключи, выключи, выключи…»