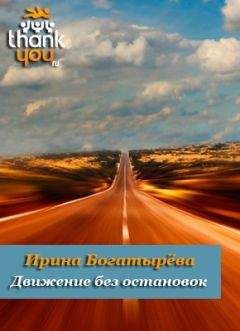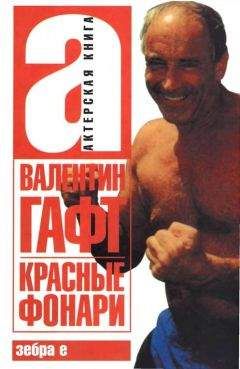— Сорокин, а Сорокин, давай играть, что мы робинзоны и за нами никто никогда не придёт.
Костёр сушит, мы греемся. Режем хлеб на тонкие квадратики, сыпем солью и на веточках жарим. Вода из-под крана вкуснее вина.
Палатка у Сашки — старая брезентуха. Всю ночь мы греемся то в обнимку, то спиной. Одеяла тонкие для майской озёрной ночи.
Мне снится Продюсер. Он сидит в лодке и удит рыбу. По воде плывёт, блестя струнами, красивая новая гитара.
— И всё это мне? — поёт радостная Тюня на берегу, прыгает и хлопает в ладоши. Тюня ребёнок, Тюня девочка с косичками. Она ещё не знает, что будет петь песни и поднимать из руин рок-андегаунд Москвы. И все ли там будут твои друзья?
Просыпаюсь от голода. В палатке, нагретой солнцем, душно, как в болоте. Вылезаем наружу.
— Сорокин, у тебя правда никакой еды?
— Догоним, — говорит Сашка.
Мы собираем палатку. Идём, едим хлеб с солью.
— Смотри, вот остров. Может ли он быть большим? Нет, это круглый остров и мы их найдём. Тю-ня! — кричит Сашка в лес, хотя никаких звуков оттуда не слышно. Я опять пытаюсь увидеть всё сразу и сверху: вот мы, вот лес, вот много-много воды. Никого больше не вижу.
— Сорокин, давай играть, что мы орлы и ловим сусликов в поле.
Лес ещё сырой и голенький, он несогретый, необжитый, мы ходим по нему, как бездомные.
— Тю-ня! — орёт Сашка, как лось.
— Про-дю-сер! — ору я. — Слушай, Сашка, а почему мы Ленку не зовём?
Сашка мрачнеет. Пусть даже они втроём — если Ленка чего-то хочет, это всё… Сашка знает это. Молчит. Мы доедаем хлеб. Всё, приятель, больше тебе неоткуда будет брать силы на ревность.
— У меня ещё сахар есть, — говорит Сорокин. Сахар с водой — это прекрасно. Только вода у нас кончилась. Выходим на болото.
— Сашка, ты помнишь, где осталось озеро?
— Нет. Погоди. — Он наклоняется и наполняет нашу бутылку. Мы пьём и едим сахар. — Хорошо, — говорит Сашка и довольно потягивается.
— Впервые пью болотную лужу.
— Она чистая, — говорит. — Там жаба сидела. Жаба в грязной воде не сидит.
Вдруг оба изменились. Одно безумие сложилось с другим, и Сашка впал в то состояние, когда он не мог отпустить Ленку от себя ни на шаг. И, оказалось, Ленке это нравилось. Они влипали друг в друга, как разноцветные куски пластилина на дощечках под картинками из отбросов у нашего Тольки.
Они жили долго и счастливо. Действительно долго по Ленкиным меркам и действительно счастливо по меркам коммуны. Но когда любовь становится зависимостью, дети забывают правила игры. Надо было так случиться, чтобы именно в это время у нас объявилась Тюня.
Нет, ты не станешь жить у нас, Юленька, но твои песни, пьяные, шалые, угарные, — они про всех нас, бездомных детей Якиманки. Потому мы и полюбили тебя, Тюнечка, потому ты и была с нами, и каждый из нас в душе готов был тащиться за тобой на край света. Каждому времени нужен идол, и если сейчас его нет, чем хуже ты, Тюнечка, звезда московских пивных? Мы все с тобой, пока ты поёшь про нас, для нас, и тебя никто не купил, — а кто ж тебя купит?
Её притащил Сорокин; она стала у нас репить с осени, а в середине зимы у неё появился Продюсер. Вроде, с творчеством пошло на лад.
Зато с коммуной, ещё не пришедшей в себя после лихорадки, начался новый припадок. Рома-Джа затянулся, поморщился, как старый индеец, и сказал:
— Крантец.
Это он сказал после того, как Сорокин бегал без сна и отдыха, развешивая афиши к тюниному концерту, а Ленка тем временем вырезала себе от локтя до кисти слово «ПРОДЮСЕР» руническими буквами.
Мы играем в ассоциации. Толька водит. Я отвечаю. Все слушают, прерывая напряжённое молчание смехом.
— Рояль, — говорит Толька.
— Хромая собака.
— Будильник.
— Капризный первоклассник.
— Ленка.
— Маленькая девочка, которую обидели (я вижу, как она смеётся и от удовольствия кусает Сашку за ухо).
— Сорокин.
— Мальчик читает ночью под одеялом с фонариком (я вижу, что Сорокин хочет что-то сказать, но не успевает).
— Тюня, — входит во вкус Толик.
— Девочка, которая ждёт подарков на новый год (как жаль, Тюнечка, что тебя нет сейчас рядом).
— Мелкая, у тебя все ассоциации однотипные пошли, это подозрительно.
— Это уже не ассоциации, это я так вижу.
— Ну хорошо. А Продюсер?
— Продюсер… Это… — Я впервые думаю. Жаль, что его тоже нет и я не могу взглянуть. — Нет, не вижу… Что-то ничего я не вижу.
Продюсер был бледен, худ, в прожжённых джинсах, в носках с голыми пятками, в рубашках без пуговиц, — но он знал нужных людей в нужных клубах и, даже казалось, знал места ещё больше и дороже. Но он молчал, он ждал, он умел ждать, это Продюсер, блефовать до поры и носить свой джокер в кармане. Только вот есть ли он там?
Пока же он щедро дарил Тюню советами. Они приходили вместе, Тюня пела, всё шло как всегда, а потом Продюсер говорил, что кому в идеале делать. С антресоли мне были видны его глаза — серо-голубые, умные — и я понимала Ленку. С антресоли мне были видны Тюнины губы — тонкие, с равнодушной кривинкой, с белым зубиком из-под — и я понимала Сорокина. С моей антресоли мне вообще было видно всё, и всё сливалось и путалось.
Безумие вновь стало копиться в коммуне, оно копилось всю зиму, а к весне по силе сравнялось со спящей атомной бомбой. Ленка с Сорокиным мирились и ссорились, переходили в положение брат-сестра, а после били друг друга и ставили фиолетовые засосы. Тюня с Продюсером продолжали являться ровные и спокойные, я видела их со своей антресоли, и свет близкой лампочки мерк в моих глазах от невозможности смотреть на них обоих вместе.
Мой дом полон детьми, забывшими, что они дети, и все они хотят во что-то играть.
У них стали получаться концерты. У них стали появляться деньги. Если бы тут была любовь, всё давно бы встало на свои места. Но всё оставалось как было, и в конце апреля Продюсер сказал:
— А идёмте-ка все на озеро в майские праздники.
Это прозвучало, как вызов на дуэль. Ведь лес — это когда человек ощущает себя свободным и сильным, и тем резче хочет быть рядом с тем, с кем ему хочется. Что с ними случится в лесу, знать не мог даже дед наш Артемий. В бомбе щёлкнуло, и пошли отскакивать секунды. Я видела, как они засуетились, и мне хотелось замуроваться в своей антресоли, чтобы пережить взрыв.
Мы бродим столько, сколько ноги носят. Выходим на поляну, где мох прогрет солнцем, ложимся не сговариваясь, и нам хорошо.
— Сорокин, что тебе Тюня?
— Клёвая.
— А что Ленка?
— Зверёк.
— А Продюсер?
— А что мне-то Продюсер?
— Ну, как он тебе?
— Не разглядел.
— А они вместе?
— Бог их поймёт.
— А знаешь, когда я её самой-самой настоящей видела?
— Кого?
— Тюню. Когда она у нас ночевать осталась однажды. Я тогда смотрела, как все спят. А у неё лицо было такое детское, беззащитное. Мне хотелось погладить её по волосам. Она такая, Сорокин.
Я снова быстро пытаюсь оглядеть всё и сверху: вот мы, вот лес, вот озеро… Где те, кого мы ищем? Кого мы ищем? Те… Почему-то мне кажется, что мы опоздали. Думаю куда, но от тепла и неги уже засыпаем. Солнце садится, светит и греет, птицы поют, и Сорокин начинает похрапывать.
Вижу во сне рыжую убитую собаку.
Разве бы вылезла я со своей антресоли? Что мне там делать, если эти дети так хотят играть, лупить и мучить друг друга. Но настал май. Было холодно. Рома-Джа обмотался рыже-красным шарфом, постучался ко мне в антресоль и сказал:
— Мелкая, а Мелкая, а шла бы ты с ними.
— А шёл бы ты. Я не в группе.
— А я в гриппе.
— И чё?
— Иди, Мелкая. А то неровен час…
Договорились встретиться на Савёловском вокзале и поехать до озёра. Но встретили друг друга только мы с Сорокиным, попрыгали на пятачке, где условились, побежали на перрон — электричка махнула нам куцым хвостом и скрылась. Сашка смотрел ей вслед, как брошенная собака. Могу поклясться, он в тот момент думал, что Ленка устроила так специально.
— Направление знаем, — сказал он. — Догоним.
После зимы вылезаем из Москвы, слепые, как кроты, поросшие грибами и плесенью. Мы плохо соображаем, мы щуримся, и голова кружится от воздуха. Вот лес, он гол и пуст, вокруг первая зелень и первые бабочки.
Что ж, можешь радоваться, приятель: ты выиграл у города себе ещё одну, новую весну.
Мы просыпаемся в сумерках, разбиваем палатку и зажигаем костёр. Греемся.
— Ленка сразу у меня спросила, разрешу ли я ей его любить, — говорит Сашка. — А я сказал: нехай!
— Кого?
— Да Продюсера. Я ей сказал: нехай, он ведь такой, его хоть люби, хоть не люби.
Сашка достаёт трубку и курит.
— А ведь хорошо сейчас, — говорит он. — Больше ничего и не надо.
Костёр собирается скорбной кучкой пепла. Мы лезем в палатку. Укрываемся.