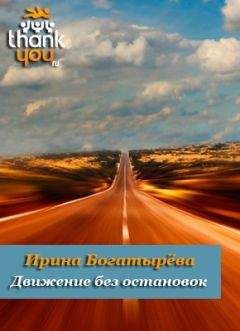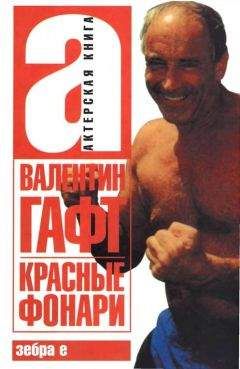Правила эти неписаны. Точнее, они когда-то были написано, но быстро содраны кем-то в припадке скандала, однако их помнили и знали по принципу «передай другому». В правилах был этот пункт: самостоятельными считались все животные, что могли сами найти что-то и съесть, либо покинуть территорию, условно отведённую их хозяину. Все это исключало кошек, собак, хорьков и слишком шустрых кроликов. Не исключало мышей, крыс, хомяков, рыб, рептилий и шипящих мадагаскарских тараканов.
Защищать Кару было после того бессмысленно. Осталось только стянуть её с рожка и гордо покинуть с дом. Якиманка попряталась по своим углам, закрыв от нас двери, я поставила стул на стол и полезла, прибежала Ленка, раскрыла окно, чтобы Каре было куда лететь, и стала громко хохотать и прыгать, чтобы Каре было чего бояться.
Я оказалась с ней вровень. Балансируя, выпрямилась и потянула руки. Кара глянула на меня почти с укоризной, мотнула головой и отчётливо каркнула:
— Ха работу!
После чего сорвалась с люстры и полетела по коридору, рождая вихрь в недрах коммуны.
— Те-те-те, — не то с похвалой, не то порицая промолвил дед наш Артемий.
— Ура! Клиника! — зарадовалась Ленка и бросилась вслед за Карой.
Унимая коленную дрожь, я слезла вниз и побежала в комнату, ибо что напротив кухни в нашей коммуне, прямо по коридору без поворотов — комната Ромы-Джа, с роялем и моей антресолью.
Окно там оказалось настежь, и комната кипела уличными звуками. Ленка сидела на подоконнике, держа над двором горшок с Сашкиным перцем. Так распорядилась к тому моменту Ленка и коммунская Сашкина судьба, что он снова жил в ванной, а в комнате нашей рос его любимый жгучий перец, небольшое зелёное деревце. Он-то и держал его пока в коммуне — он и бешенные Ленкины глаза, уставившиеся сейчас из раскрытого окна отвесно в Якиманский двор.
В тот день, когда Сорокин сажал этот перец — разбухшее семячко с белым хоботком — он крутился весь день в комнате, и Ленка, не выдержав этого, в сердцах заявила: «Что ты липнешь здесь? Шёл бы лучше, занялся чем-нибудь бесполезным. Утюг бы выгулял что ли». Сорокин покорно сказал: «Хорошо», я его поддержала, и Ленка тут же стала смеяться, не поверив, что мы это сделаем.
А мы стали гулять с утюгом каждый вечер, и Ленка переименовала нашу коммуну в клинику. Сначала мы выносили его на лужайку у дома, потом Сашка принёс роликовую доску. Мы привязали к ней верёвку и стали закреплять утюг, с ним можно было теперь ходить гулять дальше двора. Ленка радостно кричала нам в окно: «Психи» — когда мы выворачивали из арки на улицу.
— А вот интересно, долго ли отсюда лететь? — произнесла задумчиво она, почувствовав, что люди возвращаются в комнату.
— Улетела? — спросила я, и что-то свернулось во мне в унынии.
— Прям, — дёрнула Ленка плечом, поставила перец на крышку рояля, откинулась к раме и уставилась в учебник.
Я обернулась — на тумбочке, с которой начинается моё восхождение в антресоль, стоял Сорокин и смотрел внутрь моего дома.
— Ах, кайф какой, ах кайф … — причитал он.
Я встала тоже на тумбочку и заглянула — Кара стояла там, пригнувшись, у дальней стены, рядом с моими книжными башенками и свёрнутым на день спальником.
— Рома, — сказала я, — она уйдёт из коммуны, когда придёт её время, ладно?
— Все мы уйдём из коммуны, когда придёт время, — откликнулся Рома из своего угла. — Я уйду скоро. Если она останется дольше, здесь поднимется бунт, который вы не сможете унять.
— Пусть будет так, — согласилась я.
На стекле окна нашей комнаты висит красная пластиковая дощечка — «Запасной выход». Табличку повесила Ленка, она встречалась с панком, юным мальчиком, вечерами они гуляли по стройкам, и наша коммуна получила с одной этот новый свой символ. Окно здесь вечно открыто, и это верно, как восхитительно это верно! Ленка удивительно точна в своём виденье жизни, поэтому все её выходки носят лёгкий экзистенциальный налёт.
Как всякий вестник, ты знаешь, что такое время и когда оно придёт, твоё время, Кара. Ты ходишь по нашей комнате, стуча подковками своих когтей, и даже не смотришь в сторону распахнутого окна. «Запасной выход» — это на будущее, а сейчас ты здесь, Кара, чтобы изменить наш мир.
Так не я сказала, так сказал Макс. Но Макс — это такое странное существо, он всем друг, но о нём никто ничего не знает. Он приходит в коммуну в гости, приходит как тень, почти незаметный, но всегда ощутимый. Фотографирует нас, разные странные мелочи нашей квартиры, говорит с нами, с каждым о чём-то своём, и уходит. После него всегда в неожиданных местах находятся сладости, но он никогда не говорит, что приносит их. Он москвич, и мне кажется, что он ходит к нам как в зоопарк или, точнее, как в экзотический сад, где животных можно наблюдать в естественной среде.
Он меня старше, как брат. Мы с ним знакомы давно, и это он привёл меня на Якиманку. Никто не знает, чем он занимается, но от него исходит уверенность профессионала — профессионала во всём. Он человек, который уже сделал себя, в отличие от всех нас, жителей коммуны, и за это получил право быть непонятным и никому не раскрываться. Вот и всё, что я знаю про Макса.
Он пришёл в тот же день, когда появилась Кара, у него загорелись глаза, и весь вечер он не сводил с неё своего объектива.
— Такие существа являются, чтобы изменить наш мир. Ты же понимаешь, — сказал, уходя.
И вот Кара ходит по нашей комнате, а коридоры Якиманки пульсируют, прислушиваясь к цокоту её коготков. Она — нарушение наших правил, но разве можно изменить мир, не нарушив их?
— Петрашевцы, — ворчит на нас дед Артемий, когда мы появляемся на кухне.
Кара любит замирать и подолгу таращить глаз на стекло шкафа, за которым прячутся Ромины книги. Если присесть на корточки и похлопать по коленям, она подойдёт и тронет большим, будто полированным клювом протянутую ладонь. Она любит играть, катать комки бумаги по полу, подбрасывать и ловить их в воздухе. Приглашая на этот волейбол, она начинает прыгать вокруг и ударять клювом о ноги. Это не больно, только немного страшно — ведь если есть что-то действительно далёкое от человека в природе, то это птицы. Она привередлива к пище и ест исключительно бледных, страшных мойв. Мы с Сорокиным сбились с ног сначала, пытаясь накормить её, подкладывая ей под клюв разную еду.
— Вздор, — отчётливо произносила Кара и отходила. И только мойву взяла. Она мотает головой, трясёт рыб и глотает так, что мы всегда не успеваем заметить, как это происходит.
Мы носимся с Карой, я и Сорокин, Рома качает головой, а Ленка всякий раз, когда поднимает трубку звонящего телефона, говорит серьёзным голосом:
— Клиника слушает.
Там отключаются. Ленка хохочет и вспрыгивает на табуретку посреди комнаты:
— Exegi monumentum ereperenius, — и так далее по тексту. Это значит, что у неё сессия.
А когда ты спишь со мной в антресоли, Кара, когда ты уходишь в дальний конец, поджимаешь там ноги и закатываешь глаза, прикрывая их страшной плёнкой, — я долго смотрю на тебя и не могу уснуть. Ведь вот же он, самый иной из всех возможных миров, так близко и рядом, и пусть кто-нибудь скажет, что это не чудо.
Но и с антресоли я слышу, как полнятся пересудами коридоры. «Даже если ты не видишь соседа, помни, он всегда рядом», — гласит правило Якиманки, и оно верно, ох, как дьявольски оно верно. Даже если ты не видишь соседа, помни, что он есть, даже если ты не слышишь соседа, помни, что он тоже о тебе думает.
А о нас с Карой думали все. В первую очередь Сонька Мугинштейн.
Сонька жила в нашей комнате по праву четвёртого после того, как съехал Сорокин. Она была нормальный человек, чем рушила Ленкину теорию о клинике, потому она сделала вывод, что Сонька попала к нам по ошибке. Я тоже думала сначала, что она надолго у нас не задержится, но оказалось, мы с Ленкой её недооценили: Сонька жила и жила и никуда не собиралась пропадать, наоборот, пропадать начал Толька. Она была пианисткой из консы и, придя домой, разучивала свои уроки на нашем рояле, а Толька потом жаловался, что не может больше там спать, потому что растревоженное нутро инструмента, столько лет бывшего беспробудным, гудит и охает всю ночь после Сонькиных упражнений. Так он говорил и так ему казалось, а потому он всё активней искал себе девушку, чтобы было где жить. У него, похоже, получалось: все дни, что жила у нас Кара, он не появлялся в коммуне.
Сонька была обычный человек в том жестком коммунском понимании, в каком это слово соответствует понятию обыватель. Обыватель для нас — это человек всепоглощающего стандарта. Даже если Сонька была не такой, узнать об этом мы не могли: она была очень скрытна или, точнее, зажата, жила с подавленными эмоциями и чувствами, никогда не говорила, нравится ей что-то или нет, потому нам всегда казалось, что ей всё не нравится, и на лице её было единственное выражение — терпения. Она была какая-то угловатая, как будто все её движения были скованы. Обычно люди с такой внешностью болеют всякими гастритами, а обниматься с ними неприятно, как с большой белой рыбой. Когда мы с Ленкой пытались представить, о чём она мечтает, — а фантазировать вместе всякие глупости было нашим любимым занятием, — нам быстро становилось скучно и мы шли на кухню пить чай.