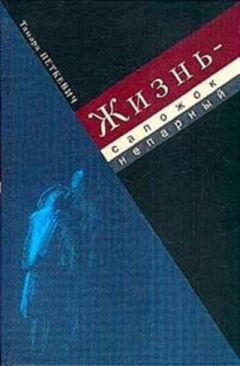Студент на это отвечал запинаясь: «Но ваше здание — без фундамента, оно стоит на ложной посылке, на заблуждении. Никем еще не доказано, что бог есть, особенно этот ваш, триединый…» — «Хорошо! А бедная Лиза есть? — величественно вопросил поп. — А Иван Карамазов?» Вопрос был задан двусмысленный и сложный. Предчувствуя подвох, студент задумался. Плохо выслушанные, а может, плохо прочитанные кем-то лекции по научному атеизму припомнились ему. Он не спешил с ответом.
Тут крик тети Нюси достиг апогея. Он перешел в надрыв, в визг и стал невыносим. О-о! Наташа в немом отчаянии заткнула уши. Пара беседующих приблизилась. У отца Николая вновь дернулась бровь. «Словоблудишь! — загремел он с высоты своего прекрасного роста. — Богохульствуешь!..»
Да, грозен был иерей! Чуточку лицедей, конечно. Наташа потом встречала таких. Но крик оборвался. Тетя Нюся, только что нехорошо поминавшая божью матерь, всхлипнула, бросила себе под ноги половинку кирпича, закопченную с трех сторон до бархатной черноты, однако желтенькую, будто сдобный пасхальный кулич, на изломе, и, пьяно шатаясь, побрела прочь, потом — побежала. Толпа молча смотрела ей вслед. «Спектакль окончен», — неуверенно объявил кто-то, и все нехотя разошлись.
Наташа осталась. Куда ж ей было идти от родного дома? Раньше она пряталась за чужие спины, а теперь очутилась на виду. Поп скользнул по ней горячим, но безразличным взглядом и вернулся к прерванной ученой беседе: «Небытие материальное не запрещает бытия духовного. Есть материальный стол, но есть и духовная идея стола! Она же его причина, образ, понятие, цель… Можно — и легко — сломать стол, но как разрушить идею?»
Новый поп говорил так красноречиво, так театрально жестикулировал, такой он был грозный, важный, что Наташа пожалела студента. «Ох, заклюет он его! — думала она. — Связался черт с младенцем!» Одетый в черное, в новых щегольских ботинках, которые больше подошли бы танцору, поп и вправду походил на большую хищную птицу, а еще больше — на оперного Мефистофеля. «Нет, это тебе не Алексий-покойник, — шепнули вдруг над самым ее ухом. — Этот кого хошь заговорит, златоуст! Табаку не курит, водки не пьет ни граммочка, гантелями по утрам в саду занимается… Физкультурник!» Наташа вздрогнула и обернулась: Халабруй! Вот кто сумел прочесть ее мысли! Стоит себе, ухмыляется, показывая стальные зубы, и щурит глаза, будто это не его сейчас вкупе с матерью поносила, срамила, позорила на все село, на весь белый свет горластая, обиженная тетя Нюся!
А студент не сдался, не капитулировал, как то предполагали Наташа и ее новый отчим. Наоборот, сказал с улыбкой: «А что мы, собственно, топчемся? Инцидент, кажется, исчерпан? Все, что вы говорили об идеях, — это же чистой воды Платон! Победить идеи можно только идеями…» — «Да-да, пойдемте», — ответил поп и величественно прошествовал мимо Наташи и Халабруя. Пахнуло не душным и сладким ладаном, как того ожидала Наташа, а крепким одеколоном. Мужественный запах.
«Платон… Платон Каратаев, Платон Кречет… — всплыло откуда-то из глубин памяти, и Наташа твердо решила: — Еду! Буду поступать». Ей казалось тогда, что нет преграды, которую она не смогла бы преодолеть. Поступит в институт, с отличием окончит его, станет ученой-преученой… Выпускные экзамены в школе она сдавала будто по вдохновению. Подруги думали, что ей везет. Учителя только качали головами.
Сдав последний устный экзамен — химию, Наташа пришла домой и застала там… тетю Нюсю. Мать, нацепив на нос непривычные очки, читала вслух письма, которые брат Витька писал домой из армии, а тетя Нюся слушала ее монотонный, какой-то деревянный голос и чинно кивала головой. Экс-подружки сидели за столом, перед каждой — стакан со слабенькой, мутноватой бражкой. «Помирились… После всего, что было? Нет, это невозможно!» — смятенно подумала Наташа, расстегивая белый передник, который так надоел ей за десять школьных лет и с которым так грустно было расставаться, и даже пятерка по химии, идущая в аттестат о среднем образовании, перестала радовать ее. Разве поймешь когда-нибудь этих взрослых? Странные они все, даже родная мать! Она, Наташа, обидчицу ни за что бы не простила!
А старые подруженьки вновь то ссорились, то мирились. Поэтому-то сейчас Наташа слушала тетю Нюсю настороженно, не зная, как надо вести себя с ней и что отвечать. Попадать впросак не хотелось: мама потом запилит. Нюся между тем перестала ахать и причитать и, пытливо заглядывая Наташе в глаза, спросила:
— Ты одна приехала или с мужем со своим?
— Одна, — ответила Наташа.
— А и правильно, деточка, сделала, — одобрила тетя Нюся, помолчав. — Мужиков в это дело мешать — бед не оберешься! Ить как иной посмотрит! А то скажет: «Ага! Мать у ней такая, значит, и сама она хороша: яблочко от яблони далеко не укотится». Убеждай потом, доказывай ему! Твой-то партийный?
— Д-да, — помедлив какой-то миг, с усилием ответила Наташа, и не Андрейкин отец, нет, а совсем другой человек вспомнился ей вдруг сейчас, его жаркая кроличья шапка.
Тетя Нюся вздохнула сочувственно:
— Вот видишь? — Словно древний воин на громадный лук, опиралась она на коромысло свое, вот только ведра на колчаны для стрел не были похожи. — А тут приключение такое неприятное! Вот я твоей мамочке и говорю…
«Да в чем же наконец дело-то?» — чуть было не вскричала Наташа, однако сдержалась и вместо крика проговорила кротко и тихо:
— Мама ждет. Пойду я, тетя Нюся!
— Иди, деточка, иди, — Нюся громыхнула ведрами. — Не стану тебе пустая дорогу переходить!
У своей калитки Наташа остановилась… Иногда и в детстве бывало так: Наташа торопилась куда-нибудь, спешила — в магазин, в школу, к подружкам, шушукающимся, петляющим возле старого клуба, в который было так страшно и так хотелось войти во время танцев под радиолу, — но внезапно останавливалась будто вкопанная и, оглохнув и онемев, забывала, куда и зачем шла. И все вокруг, и даже, кажется, само время останавливалось и замирало вместе с нею. Наташа с удивлением оглядывала мир.
Вот ведущая в их двор калитка — серое некрашеное дерево, кое-как сбитое братом Витькой, но какие, оказывается, интересные шляпки у гвоздей — в рифленую клеточку! Зачем? Чтоб не соскальзывал при ударе молоток? А сразу за калиткой — дерево. Какое ж оно старое! Тополь. Кто посадил его? Сколько ему лет — сто, сто пятьдесят, двести? Ведь у живого, неспиленного, годовых колец не сочтешь… А вот здесь — и взрослый не дотянется, нужна лестница — когда-то спилили сук, но годы шли, и круглый след медленно — слишком медленно, чтобы несовершенный человечий глаз мог заметить это, — заплывал, затягивался толстой, в трещинах морщин корою. Маленькой Наташе казалось, что она понимает и чувствует, какого напряжения и какой муки стоит дереву залечивание увечья…
— Наташк!
Пробуждаясь:
— А? Что?
Хмурая мать поджидала Наташу на пороге.
— Где бродишь цельных два часа? Тебя за смертью посылать, — сказала она сварливо. — Твой проснулся. Изорался весь. Не знаю, что и делать с ним. Разучилась. Отвыкла!
— Ой!
Наташа сунула матери в руки сумку с покупками, сбросила туфли и со всех ног кинулась к сыну. Наревевшись вдосталь, мокрый Андрейка кряхтел и сучил ножонками. Чужой, холодный мир окружал его. И мамы рядом нет! Ну как тут не заплакать? А пятки у него были — с подушечку Наташиного большого пальца, розовые. Наташа не удержалась и расцеловала их. Потом оглянулась на часы. Ходики с кошачьей мордочкой, нарисованной выше циферблата, показывали половину восьмого. Вечер. Подкрался. Незаметно. Кошачьи, соединенные с маятником, глаза качались с неживым однообразием: туда-сюда, туда-сюда… Ничего не видят, ничего и не хотят увидеть. И, как и всегда при взгляде на часы, Наташа на мгновение почувствовала приступ тоски по зря — ах, ну конечно, зря! — растраченному времени. Вот так: будто тонкой и холодной иглой кольнуло в сердце.
— Когда отнимать-то думаешь? — спросила мать, наблюдая за тем, как Наташа кормит сына грудью.
Пожилая патронажная сестра не раз повторяла, что при кормлении ребенок должен забирать в рот весь сосок. Иначе — трещины, мастит, а ребенок останется голодным.
— Жалко… — чуть слышно ответила Наташа.
Она старалась, чтобы все было по правилам, и кормила Андрейку пять раз в день: в семь утра, в одиннадцать, в три, снова в семь, но уже вечера, и еще раз в одиннадцать — ближе к ночи. Вчера задержалась с последним кормлением, и вот вам результат — у Андрейки расстроился желудочек. Но в электричке, на глазах у всех, расстегиваться тоже неудобно, верно?
— Звездочка ты мой, лапочка, бедненький…
Это были священные минуты. Наташа чувствовала себя такой счастливой! До мурашек по спине и кома в горле.
— Бормочешь ты, как Маня-чепурная, — вздохнула мать, отводя глаза в сторону.
Сельская дурочка Маня-чепурная заслужила свое прозвище потому, что любила краситься-мазаться — наводить красоту. Считала, видно, что именно так оно и приличествует настоящей городской даме. И странно было смотреть на ее впалые, как у боярыни Морозовой, щеки, натертые вареной свеклой или конфетной бумажкой, на брови, размашисто и неточно подрисованные древесным углем, которым в селе топили утюги, а раньше, говорят, самовары. Именем Мани-чепурной в пору Наташиного детства стращали непослушных и капризных. Придет, мол, ежели не будешь слушаться, Маня, посадит в мешок с корками, отнесет на станцию, сдаст на мыло. Рейсовые автобусы тогда еще не ходили, дорог не было, и казалось, что станция лежит на другом краю света, где возможны любые чудеса.