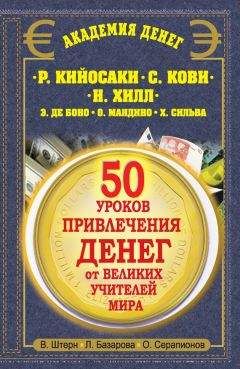– Дальше! – с раздражением крикнул Большаков.
– И вот он натянул эту пятую струну. И отправился выступать перед начальством. И заиграл на этой лире с повышенным, заметьте, диапазоном. И затянул какую-то дионисийскую песню. А рядом оказался некультурный воин Медонт. И подобрал этот воин с земли недозрелую фигу. И кинул ее в певца Терпандера. И угодил ему прямо в рот. И через минуту греческий певец Терпандер скончался от удушья. Подчеркиваю – в невероятных муках.
– Зачем вы мне это рассказываете? – изумленно спросил Большаков.
Гурфинкель вновь дождался полной тишины и объяснил:
– Хотите знать, в чем тут мораль? Мораль проста. А именно: не повышайте тона, мистер Большаков. Вы слышите? Не повышайте тона! Главное – не повышайте тона, я вас умоляю. Не повторите ошибку Терпандера.
Затем я отправился в галерею Мориса Лурье. Там заседала культурная секция. Должен был выступать Рувим Ковригин. Помнится, Ковригин не хотел участвовать в симпозиуме. Однако передумал.
Еще в дверях меня предупредили:
– Главное – не обижайте Ковригина.
– Почему же я должен его обижать?
– Вы можете разгорячиться и обидеть Ковригина. Не делайте этого.
– Почему же я должен разгорячиться?
– Потому что Ковригин сам вас обидит. А вы, не дай Господь, разгорячитесь и обидите его. Так вот, не делайте этого.
– Почему же Ковригин должен меня обидеть?
– Потому что Ковригин всех обижает. Вы не исключение. В общем, не реагируйте, Ковригин страшно ранимый и болезненно чуткий,
– Может, я тоже страшно ранимый?
– Ковригин – особенно. Не обижайте его. Даже если Ковригин покроет вас матом. Это у него от застенчивости…
Началось заседание. Слово взял Ковригин. И сразу же оскорбил всех западных славистов. Он сказал:
– Я пишу не для славистов. Я пишу для нормальных людей…
Затем Ковригин оскорбил целый город. Он сказал:
– Иосиф Бродский хоть и ленинградец, но талантливый поэт…
И наконец Ковригин оскорбил меня. Он сказал:
– Среди нас присутствуют беспринципные журналисты. Кто там поближе, выведите этого господина. Иначе я сам за него возьмусь!
Я сказал в ответ:
– Рискни.
На меня замахали руками:
– Не реагируйте! Не обижайте Ковригина! Сидите тихо! А еще лучше – выйдите из зала… Один Панаев заступился:
– Рувим должен принести извинения. Только пусть извинится как следует. А то я знаю Руню. Руня извиняется следующим образом: «Прости, мой дорогой, но все же ты – говно!»
Потом состоялась дискуссия. Каждому участнику было предоставлено семь минут. Наступила очередь Ковригина, Свою речь он посвятил творчеству Эдуарда Лимонова. Семь минут Ковригин обвинял Лимонова в хулиганстве, порнографии и забвении русских гуманистических традиций. Наконец ему сказали:
– Время истекло.
– Я еще не закончил,
Тут вмешался аморальный Лимонов:
– В постели можете долго не кончать, Рувим Исаевич. А тут извольте следовать регламенту.
Все закричали:
– Не обижайте Ковригина! Он такой ранимый!
– Время истекло, – повторил модератор,
Ковригин не уходил.
Тогда Лимонов обратился к модератору:
– Мне тоже полагается время?
– Естественно. Семь минут.
– Могу я предоставить это время Рувиму Ковригину?
– Это ваше право.
И Ковригин еще семь минут проклинал Лимонова. Причем теперь уже за его счет.
К шести я был в гостинице. Переоделся. Выпил чаю, который заказал по телефону.
Перспективы были неопределенные. Панаев звал к своим однополчанам в Глемп. Официально всех нас пригласили к заместительнице мэра. Были даже разговоры о поездке в Голливуд.
Можно было отправиться в ресторан с тем же Лимоновым. А еще лучше – одному. В расчете на какое-то сентиментальное происшествие. На какую-то романтическую случайность…
Допустим, захожу. Напротив двери веселится голливудская компания. Завидев меня, полуодетая Джулия Эндрюс восклицает:
– Шапки долой, господа! Перед вами – гений!..
Есть и другой вариант. Иду по улице. Хулиганы избивают старика. Припомнив уроки тренера Гафиа-тулина, я делаю шаг вперед. Хулиганы в нокдауне. Старик произносит:
– Моя фамилия Гетти. Чем я могу отблагодарить вас? Что вы думаете о парочке нефтяных скважин?..
И так далее. А ведь я, формально рассуждая, интеллектуал. Так почему же мои грезы столь убоги? Чего я жду каждый раз, оказываясь в незнакомом месте?
Хотя, если разобраться, я ведь пересек континент.
Оставил позади четыре тысячи километров. Неужели все это лишь для того, чтобы поругаться с Ковригиным?
Глупо чего-то ждать. Однако еще глупее валяться на диване с последней книжкой Армалинского.
Вдруг я заметил, что у меня трясутся руки. Причем не дрожат, а именно трясутся. До звона чайной ложечки в стакане.
Что со мной каждый раз происходит в незнакомом городе?
И тут в дверь постучали.
– Войдите, – говорю, – кам ин!
Обратным зрением я видел каждую мелочь. Отметил и запомнил десятки красноречивых симптомов будущего происшествия. Долгий неубывающий рев амбулаторной сирены. Прерывистое гудение холодильника. Бледно-голубое лишнее "А" в светящейся рекламе «Перл» («Pearl»). Надувшиеся в безветренный день оконные занавески. Странный запах болотной тины, напоминающий о пионерском детстве в Юкках. Горький вкус не по-американски добросовестно заваренного чая. Все предвещало что-то неожиданное.
Я только не знаю, как они взаимосвязаны – происшествие и беспокойство. То ли беспокойство – симптом происшествия? То ли само происшествие есть результат беспокойства?..
В общем, я ждал, что произойдет какая-то неожиданность. Недаром я испытывал чувство страха. Недаром у меня было ощущение тревоги. Не случайно я остался в гостинице. Явно чего-то ждал. И вот дождался…
На пороге стояла моя жена. Вернее, бывшая жена. И даже не жена, а – как бы лучше выразиться – первая любовь.
Короче, я увидел Таську в невообразимом желтом одеянии.
Но это – длинная история…
* * *
В августе шестидесятого года я поступил на филфак. У меня не было тогда влечения к литературе. Однако точные науки представлялись мне еще более чуждыми. Среди «неточных», я уверен, первое место занимает филология. Так что я превратился в гуманитария. Тем более, что мне как спортсмену полагались определенные льготы.
В университете я быстро ощутил себя чужим. Студенты без конца распространялись о вещах, не интересовавших меня. Любой из них мог разгорячиться безо всякого повода. Помню, как Лева Баранов, вялый юноша из Тихвина, ударил ногой аспиранта Рыленко, осмелившегося заявить, что Достоевский сродни экспрессионизму.
К преподавателям я относился с любопытством, но без должного уважения. Вряд ли кто-то из них меня запомнил. Хотя однажды латинист Бобович спросил перед началом занятий:
– А где Далматов?
– На соревнованиях, – ответил мой друг Эля Баскин. (За час до этого мы с ним расстались возле пивного бара.)
– Какой же вид спорта предпочел этот довольно бездарный молодой человек?
– Далматов – известный боксер.
– Вот как, – задумчиво протянул Бобович, – странно. Очень странно… Ведь он совершенно не знает латыни.
Короче, я пропускал одну лекцию за другой. Лучше всего, таким образом, мне запомнились университетские коридоры, Я помню тесноту около доски с расписаниями. Запах тающего снега в раздевалке. Факультетскую стенгазету напротив двери. Следы бесчисленных кнопок на ее загибающихся уголках. Отполированные до блеска скамьи возле фотолаборатории.
Примерно к двенадцати здесь собираются окрестные лентяи. Мы говорим о литературе и разглядываем пробегающих мимо девиц.
У нас есть свобода и молодость. А свобода плюс молодость вроде бы и называется любовью.
Помню ожидание любви. Буквально каждую секунду я чего-то жду. Как в аэропорту, где ты поджидаешь незнакомого человека. Держишься на виду, чтобы он мог подойти и сказать: «Это я».
Я знал, что скоро и у меня будет девушка в кожаной юбке…
Вот приближается Гага Смирнов, лет через десять женившийся на француженке. Вот Миша Захаров, который сейчас чуть ли не директор издательства. Арик Батист, тогда еще писавший романтические стихи. Лева Балиев, не помышлявший в те годы о дипломатической карьере. Будущий взяточник, заключенный и деклассированная личность – Клейн. Женя Рябов с красивой девушкой и неизменной магниевой вспышкой. (Я совершенно убежден, что можно покорить любую женщину, без конца фотографируя ее.)
Я понимаю, что Рябов здесь лишний. Он чересчур суетлив для победителя. А девушка слишком высокая. Ей не должны импонировать люди, рядом с которыми это бросается в глаза.
Она высокая, стройная. Голубая импортная кофточка открывает шею. Тени лежат возле хрупких ключиц.
Я протянул руку, назвал свое имя. Она сказала: «Тася».
И тотчас же выстрелила знаменитая ленинградская пушка. Как будто прозвучал невидимый восклицательный знак. Или заработал таинственный хронометр.