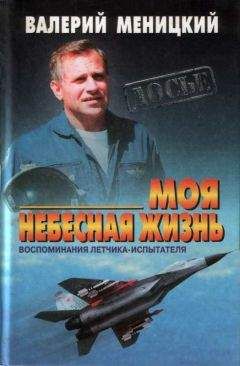Тогда-то и будет тарарам. И конец. Так зачем я здесь? Вот вопросик!
Борюсь за жизнь. Уже восемь месяцев длится эта дурная приснившаяся жизнь.
Ватикан? Лабиринт Тадеуша Брезы. Вам бы написать еще один Лабиринт![18]
— Ты заметил, Б-н после обеда не курил?
Многозначительный обмен взглядами.
— Нет, он просто спешил.
— Может быть…
Но я-то знаю: наблюдение верное: Б. уехал после обеда «наверх»: м. б., хозяин того кабинета не любит запахов? Или, в самом деле, это только спешка? Но — заметили: не курил.
Дело художника отстраниться: выпасть из игры. Т. е. придерживаться старых правил, не зависящих ни от прежних обстоятельств, ни от новых. Продолжение «линии»; это и будет объективная поддержка лучшего из того, что происходит…
Н. Б. понимает ли, как это все нелепо и как мне непросто?
Или при определенном ракурсе все это мелочи в сравнении с «высотой», на которую я поднят (поднялся?)?
Все вздор, и все утешение: я свободный человек, и вот вскрикну, и сверну…
Куда?
А сам-то все надеюсь, что мои будут жить вместе и хорошо (уходящее время не будем считать. Так?).
[Б. д.]
Эти сосны уже знакомы, и повороты тщательно расчищенной асфальтированной дороги в снегу — тоже. И вид из окна на сосны — тоже. Скажи мне кто-нибудь летом, что я буду сидеть перед этим окном, что пройдет уже почти восемь (!) месяцев ожидания квартиры, что буду заниматься политикой вместо литературы, — я бы не поверил. Боже, какая ирония судьбы и времени: вернуться в Москву, чтобы участвовать в политической жизни, да на каком уровне! Тщеславию тепло, но недолго, да и другая надежда греет сильнее: это должно пройти, миновать, прекратиться, я же другого хочу, за другим ехал! Поздновато уже, верно? да и стиль, что называется, все-таки не тот. Тон не тот, книжности много, ораторские замашки остались в 56-м или 57-м…
И все-таки поднимаешь голову, и неподвижные высокие сосны, почти не оставляющие неба в огромном окне, успокаивают. Та жизнь существует. Та, где все просто: сосны, снег, сумерки, покой сырого марта… Если б я согласился на ту квартиру, мы бы уже, наверное, въехали… Впрочем, начинаю об этом думать — такая вязкая почва, так топко, неприятно… Неприятно напоминать, напоминать, напоминать…
Целый день писал, потом еще перепишу, сейчас уже есть десять страниц; м. б., напишу еще столько; кто знает, что из этого пригодится? Но пишу и стараюсь получше формулировать; это такая уже болезнь: когда пишешь, хочешь писать лучше — в достижимую сегодня силу. А насчет «формулировать» — именно так: пытаешься сложное загнать в какие-то фразы попроще, от которых отвык.
Народу здесь необычно много, а когда-то в январе мы были здесь втроем, а Фролов наезжал четвертым. Сейчас — человек двадцать: три группы, у каждой — свое.
Сейчас вернулся после «Холодного лета 53 года». Много убивают, но редкий случай — не жалко. Вышли, я говорю Володе Кадулину: «Таких бы еще фильмов десять. Ну, не совсем таких». Он закивал, тоже был взволнован. Н. Б. тоже за фильм, смотрел второй раз. «Им полезно, гадам, пусть смотрят», — то ли я сказал, то ли он. Звуков одобрения не слышали; некоторые расходились весело или сумрачно.
Я еще когда в понедельник выступал, после бессонной ночи, всем существом чувствовал реакцию аудитории: вот это принимают (вон там), здесь (слева) нет, ворочаются, шушукаются… Кончил, в одной стороне зааплодировали. Предыдущемулектору — не было, отзвонил, и с колокольни. Но как я чувствовал — и в каких стенах! — внутренний протест (вслух опасаются; мало ли что!) — не всех, конечно, но многих. Подумал: слишком пестра публика, пропагандисты. Потом понял: сидели бы другие, было бы похоже: тот же расклад. Все зыбко…
15.3.88.
«Холодное лето 53 года». Приемыхов — на месте: есть глубина; сто раз все перегорело; в разговоре с героем Папанова публика должна почувствовать (в какое-то мгновение), что такое для человека — десять лет лагерей, т. е. жизни отнятой, изуродованной… Не «Покаянием» можно пробить эту глухую стену, эти ватные матрацы, — только прямыми ударами вроде этого. Чтобы — дыра и дымились обугленные края.
В этот раз почувствовал, какая она другая может быть здесь публика. Был среди своих, из журнала, да еще Иван Тимофеевич; казалось, так и должно быть. Нет, неправда, оглянулся, обманулся — реальность посерьезнее, да и откуда ей быть иной — не проточная же вода, а стоячая, лишь взбаламученная. (Вспомни рассуждения о крымских татарах; смысл: нет, не напрасно, не просто державная воля: было за что.) А тот аккуратист, с малоподвижными, внимательными глазами, во всем иностранном, со знанием дела рассуждающий о действиях группы захвата…
В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута.
(А. Пушкин)
— Это по поводу публикации Карамзина в «Москве». Забывчивые мы люди. Самовластья хочется, кнута. Потом дешевого пряника. И опять самовластья. И так без конца.
16.3.88.
Поговорил со всеми по телефону. Утешился. Контакт. <…> Странная у меня изоляция. Был бы дом — мог бы на ночь уехать. Некоторые уезжают. У меня дома нет. Ярмолюк говорит, что в бумаге на имя Кручины (управделами Цека) написано, что «по согласованию с Яковлевым»[19]. Я этого не заметил, когда читал. Или плохо читал, обрадовался!
Читаю Гроссмана, есть прекрасные страницы, но тяжело безмерно. Литература, или возвращение отринутой, раздавленной, загубленной жизни. Литература как возвращение этой жизни и муки.
Фролов про Н. Б.: сидит как Будда. Что-то недоволен журналом. Белорусскую карикатуру из «Вожыка» обещает показать М. С. Пусть. На благо.
17.3.88.
Теперь я все вспомнил, как вспоминают расположение фигур на шахматной доске в прерванной партии.
Тот же самый дом, и вслед за помощником я поднимаюсь по той же мраморной лестнице и иду тем же коридором, по которым хожу сейчас в свою комнату — двести тринадцатую.
Тогда я был напротив, в двести четырнадцатой, мы разговаривали с Н. Б., и я видел в глубине двести тринадцатой человека, сидящего за пишущей машинкой. Конечно, это я оговорился: это сейчас я знаю номера комнат, тогда я их не видел; наверное, я слегка волновался, т. к. вообще не сразу узнал, что уже был здесь. Самое веселое, что, если бы тот человек, сидящий в противоположной комнате с распахнутой дверью (июль, начало), обернулся, он мог бы оказаться мною.
Он не был похож на меня, в каком-то свитере или джемпере, абсолютно чужой.
Но вот он оглядывается: это я.
И я тот, из июля 87 года, спрашиваю себя, этого, из марта 88 года: что ты тут делаешь? что я тут делаю? что это значит? зачем это?
21.3.88.
(После чтения «круглого стола» в «Огоньке», № 12.)
Допустима, нужна ли «моральная оценка» (сталинской деятельности и проч.).
Оценивая эту пору, можно усвоить взгляд, подобный тому, каким смотрели на эпоху Петра или Грозного.
Не важно, что это близко. Преспокойно усваивают.
Моральная оценка — это не обязательно взгляд моралиста.
Литература почти с неизбежностью такой взгляд в себе заключает, если устраивает человеческий суд эпохе.
В конце концов, человек не обязан входить в положение властителя, государства, правящей группы. Его критика, неприятие абсолютно законны.
Его интересы законно могут расходиться с устремлениями государства, рвущегося в великие и мировые державы. Он явился на свет — жить, а не соревноваться в государственных мероприятиях, и пошли они все к черту.
Минувший год — с уходом Никиты в армию, с моим согласием на московскую службу и этим бездомьем — словно отнял у меня принадлежность к прожитой жизни, оставил ее за чертой и вместе с нею — непрошедшее чувство молодости. В эти восемь месяцев я постарел, я отделил себя от чего-то, или они дали мне почувствовать, что прежнее ощущение жизни невосстановимо. Еще брезжит какая-то надежда, что это ощущение пройдет, но вполне призрачной может быть надежда.
22.3.88.
Все отлетает назад и уменьшается. Если мы помним что-то вдвоем, то мы друг другу поможем. А если никого уже не осталось, кроме тебя, от того далекого дня в кабинете директора библиотеки, когда среди белого дня, посреди работы, мы слушали Окуджаву, и это было открытие, московская новость, дуновение дерзкой свободы.
Сегодня Тома сказала, что хоронили Андрея Селиверстовича Морозова, директора библиотеки в ту пору, когда я появился в Костроме. А пленки с Окуджавой привез тогда Коля Попов, методист библиотеки, и его тоже нет, и очень давно.
Теперь я сижу на даче Цека, вечер, и «Маяк» передает Окуджаву. И Окуджавы давно много, почти сколько хочешь, он победил, и вроде бы мы победили, наше строптивое поколение.
Но полной веры в победу нет. Нам бы ее пораньше. (Нет, ты скажи: нам бы ее подарили пораньше. Наша заслуга только в том, что не все растеряли, не все разменяли. И кое-какие силы сохранились.)