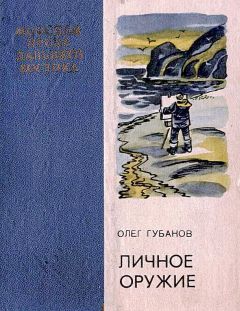Словом, Клавдия Лебедь была причислена к тем, кого и знали и не знали. Ну и побаивались.
Петр Коваль тоже робел при встрече с Клавдией, но совсем по другой причине: нравилась она ему всегда. Нет, он и в мыслях не пытался ни разу соединить с ней свою судьбу. Просто нравилась, и все. А женился он в свое время в городе на той, которую полюбил. Во всяком случае, так ему казалось. А Клавдия нравилась ему еще со школы, нравится и теперь. Может же так быть — ничем тебе человек не надоест, ничем не вызывает неприязни! Петру не нужно было и с кумушками гадать насчет отца Ромки — он его знал. Просто однажды он хорошенько присмотрелся к его черным куделькам, густым, соболиного отлива бровям и узнал по тонким детским чертам точную копию Феди Пояркова, бывшего шофера начальника строительства птицефабрики, некоторым образом даже товарища Петра.
Жил Поярков тогда в Ленинградке, с бритьем ему там было сложно из-за отсутствия электричества, да к тому же бриться ему на дню надо было дважды, чтоб не утерять жениховского вида. Утром Федор в кресло для бритья к Петру не садился, а приносил из газика свою электробритву и наскоро сбривал перед зеркалом упрямую щетину. Но во второй половине дня он появлялся заросшим пуще прежнего, смеялся:
— Уж не ем почти ничего, а как на сале растет, шипишкина мать! Ты бы схимичил мне какое-нибудь средство, Петро, а то совсем невозможно, когда на твою бороду как на часы-ходики зрят: стой, мол, Федя, глянем, не пора ли нам на обед собираться!
Федя Петру рассказывал, что работал он с геологами, бывал в море, а теперь хочется ему на БАМ или куда-нибудь севернее, а может быть, и южнее.
— Поработать хочется так, чтоб всю жизнь вспоминалось! — мечтал он, звал с собой Петра Коваля, но тот отнекивался — так далеко и так скоро уезжать от родителей считал совестным, ведь и так немало покружил вокруг дома.
А Федя Поярков однажды пришел побриться «на дорожку», показал вызов из Тынды и уехал работать на автокране.
Нравился Петру этот парень, недоумевал он, почему же с Клавдией у них все по-хорошему не сладилось? Впрочем, он знал уже по себе, как вольно возникают и необратимо перестраиваются в человеке чувства от непостижимых для ума причин, когда и самому может показаться: не из-за чего…
Клавдия знала, куда уехал Федор, но зачем и на сколько — об этом у ней пока смутное представление, хоть он так старательно и долго все объяснял.
— Если у тебя ко мне все серьезно, — говорил он, — то подожди и сына пока одна нянчи, ведь мне с вами жить — вам и служить. Верой и правдой, как говорится. Но я еще хочу послужить разным нужным делам на земле, и послужить, не щадя себя, ни на что не оглядываясь, ни в чем не притворяясь. И чтоб за такую службу можно было даже и медалью наградить! Пусть не наградят, но чтоб было за что. Такая вот моя установка. И не мне одному это надо, но и тебе, и сыну тоже, для вечной крепости нашей с тобой жизни…
Огорчилась Клавдия: непонятный человек — мужчина, мало ему любви, мало собственного дома, где будет достаток, уют и дети, он не хочет покоя — значит, он не хочет того, что нужно ей, женщине, любящему сердцу. Как жить с таким? Биться в глухую стену со своими надеждами и радостями, а потом замкнуться, быть вместе, а на самом деле порознь: он — со своими исканиями славы и подвигов, она — с домом и детьми. Уж лучше одной…
После отъезда Федора она вдруг с какой-то одержимостью кинулась наводить порядок во всем большом родительском доме. Скребла, мазала стены изнутри и снаружи, белила, красила, мыла, доводя себя порой до изнеможения, будто эта работа что-то решала в ее жизни. Первые письма Федора она сжигала в печи не читая. Казалось, наступит такой день, когда память о нем станет обыкновенным воспоминанием, пусть и грустным.
Но кончилась-таки работа по дому — все сияло чистотой, благоухало свежестью, да ничто не радовало.
А потом Ромка пришел… Сын, как и хотел Федор.
И все никак не наступал легкий день обыкновенных воспоминаний, зато сколько было тех мгновений, когда только Федор был ей нужен и только его она проклинала и заклинала появиться, возникнуть, вернуться, прийти!
Не одна весна прошла, не одно лето. Опять вот осень. Завтра утром из Холмов приедет Валентина с мужем, Ольга со своим придет, мужчины будут картошку в погреб опускать, а женщины — капусту шинковать, солить. Октябрь.
Наверное, впервые оставшись на ночь одна-одинешенька, Клавдия не могла уснуть. Вообще, в последнее время ей не по себе: то не спится, то проснется среди ночи, будто голос зовущий услышав, то все в доме опять мыть-прихорашивать примется, за материну машинку швейную вдруг сядет летнее платье обверложивать, будто оно ей к спеху, на зиму-то глядя…
Спала не спала, а вставать пора: радио заговорило. Постепенно рассветало, но небо оставалось каким-то серо-белесым, пасмурным.
Солнышко, солнышко,
выгляни в окошечко:
твои детки плачут,
по камешкам скачут,
сыр колупают,
в окошко кидают!..
Так, бывало, они с Федором на берегу Соленки приговаривали пасмурными днями в темное небо — совсем как дети…
— Солнышко, солнышко… — повторила Клавдия, но голос сразу осекся от подступивших слез.
За окном прошумел первый автобус.
«Ну, Валентина раньше восьми не заявится со своим семейством, — подумала она. — И Ольга пока по дому управится… Вот печку растоплю и за Ромкой сбегаю, а то проснется, устроит им всем «потягушечки». Он к дому привык, не то что папа родимый! Где носит его теперь?»
Набрав у летней кухни дров, она прошла в дом, свалила их у печи, настрогала лучин. Поленья сосновые, сухие — занялись огнем дружно, застреляли веселыми искрами из-за неплотно прикрытой дверцы, но тут же давно не топленная печь густо задымила. Пришлось Клавдии плотно позакрывать все двери в доме, а в кухне пол-окна распахнуть настежь.
Присев на корточки, спасаясь от едкого дыма, Клавдия смела веником мелкие угольки к поддувалу, потом стала подкладывать в топку, одной рукой заслоняясь от искристого жара.
Она не слышала шагов на веранде, негромкого стука в дверь, а когда глянула назад — привалившись к косяку кухонной двери, на нее смотрел… Федор Поярков при роскошной бороде и усах! Стукнуло выпавшее из рук полено. Она вскочила, но на встречный шаг сил уже не осталось — Федор успел поддержать, второй рукой совсем подкосил под колени, поднял к груди и толкнулся в первую попавшуюся дверь…
Валентина уже подталкивала к выходу своих мальчишек и мужа, когда пассажиры в автобусе переполошились:
— Смотрите — горит! Дом горит!!
Глянув в окно, Валентина обомлела: из кухонного окна родного дома дым с проблесками пламени свивался и поднимался вверх жуткой желто-ядовитой косой!
— Остановите, остановите! — застучала Валентина кулачками в закаленное стекло автобусного окошка. — Клавдя!! — тут же запричитала она, прижимая к груди младшего из сыновей. И впереди всех пассажиров понеслась к горящему дому…
Пожарные уехали, любопытные мало-помалу тоже разошлись. Петр Коваль потоптался во дворе до последнего и тоже направился к себе домой, недовольный, что ему не привелось спасти Клавдию из огня, вынести ее на руках, как это проделывают удачливые киногерои, — пожар дальше кухни вообще не распространился, да и с проходящего автобуса людей привалило больше чем надо, за ними и в кухню войти было просто невозможно.
В доме Клавдии остались все свои, да еще незнакомый кудлатый мужчина с подпаленной бородой, в мокром костюме, измазанном сажей, с какой-то медалью на нем. Этого незнакомца крепко за руку держала Клавдия.
В кухне и коридоре белыми волнами еще ходил тяжелый пар, стояла оцепенелая тишина, только изредка недовольно бухтели и попискивали мокрые головешки.
— А ну, все в залу! — залихватски взмахнув рукой, пригласила Клавдия и, не отпуская от себя незнакомца, вошла первой, а там представила:
— Вот, вы все мне не верили — это мой суженый, Федор!
Обедали в доме Ольги. Все удивлялись:
— Ну как вы, Клавдия с Федором, пожар-то в доме под боком не заметили?!
Федя Поярков улыбался, поглядывая на Клавдию, а та пожимала плечами:
— Да так как-то… Пока поздоровкались…
Потом мужчины вышли покурить на лавочке возле дома. Подошел Петр Коваль, поздоровался за руку со всеми и тут только узнал Пояркова, обрадовался:
— Ты?! Ну, тебя совсем не узнать! Борода, усы — вышел, значит, из положения-то, не требуется теперь и химичить насчет каждодневной щетины? А что за медаль у тебя, ух ты?!
— Медаль? Это за спасение утопающего. Был случай. А ты зря, Петро, не поехал со мной — славно бы поработали! Я вот женюсь и опять посмотрю…
— И Петра нашего тоже давно пора женить, куда только девчата смотрят! — весело заметил кто-то.