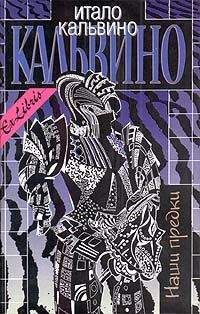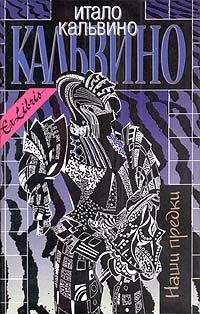Те кладут груз на каменный барьерчик, окружающий соседний участок, поднимают потные лица и смотрят на нас из-под своих капюшонов, сшитых из мешковины и спускающихся им на самые плечи.
– Откуда нам знать, где тут ваше и где не ваше? Мы не знаем, кто вы.
И в самом деле, они как будто не похожи на местных жителей. Возможно, это просто безработные, которые подрядились нарубить дров. Ну что же, тем больше оснований объяснить им, кто мы такие.
– Мы Баньяско. Никогда не слыхали?
– Ни о ком мы здесь ничего не знаем. А что до дров, то мы их нарубили в коммунальном лесу.
– В коммунальном лесу это запрещено. Сейчас мы позовем полицию и скажем, чтобы вас упрятали за решетку.
– А! Теперь мы знаем, кто вы такие! – выпаливает вдруг один из них. – Кто же вас не знает? Недаром говорят, что вы готовы как угодно насолить бедняку! Но так и знайте, сколько веревочке ни виться, а кончику быть.
– Какому это кончику? – начинаю было я, но потом мы решаем не связываться с ними и уходим, по очереди посылая им проклятия.
Где-нибудь в другом месте мы с братом запросто заговариваем с кондукторами в трамваях, с продавцами газет, даем прикурить любому, кто бы ни попросил, и сами прикуриваем у первого встречного. Здесь же все не так, здесь мы ходим не иначе, как с двустволкой за плечами, и повсюду, где бы мы ни появились, сейчас же начинается свара.
Мы проходим мимо остерии, где обосновалась секция коммунистов. Перед входом в остерию щит, на нем вырезки из газет, пришпиленные кнопками объявления. Среди них мы замечаем стишки, в которых говорится, что господа всегда остаются господами, и те, что творили беззакония прежде, – братья тех, что творят их сейчас. Слово «братья» подчеркнуто, и эта черта говорит о том, что авторы вкладывают в это слово двойной смысл и что стишок – против нас. На том же листке мы пишем: «Подлые лжецы», – и подписываемся: «Микеле Баньяско. Джакомо Баньяско». По пути мы заходим в столовую, где обедают люди, работающие далеко от дома, и, сидя за столом, покрытым холодной клеенкой, едим суп, ковыряем ногтями ломкий мякиш серого хлеба. Наш сосед по столу заговаривает о последних газетных новостях, и мы тоже говорим:
– Есть еще на свете насильники. Но придет день, и все изменится к лучшему.
Да, черт возьми, изменится, только не у нас и не теперь. Что можно сделать на земле, которая не родит, с работниками, которые крадут, с батраками, которые спят на работе, с людьми, которые плюют нам вслед, потому что мы не хотим сами обрабатывать наши поля и, как они говорят, годимся только на то, чтобы эксплуатировать других?
Мы доходим до того места, над которым частенько пролетают дикие голуби, и выбираем себе убежища, где можно укрыться и подстеречь их. Но через минуту нам уже надоедает сидеть не двигаясь. Тогда брат показывает мне на домик, в котором живут две сестры, и свистом вызывает одну из них, свою любовницу. Та выходит. У нее необъятная грудь и волосатые ноги.
– Скажи своей сестре Аделине, чтобы тоже вышла, видишь, я не один, со мной брат Микеле, – говорит он ей.
Девушка возвращается в дом, а я начинаю приставать к брату:
– Она красивая? Ну, скажи, красивая?
Но брат не отвечает на мой вопрос.
– Толстая, – говорит он. – Зато всегда согласна.
На пороге показываются обе девушки. Моя и в самом деле неимоверно толста и к тому же огромного роста. Но на один вечер, да еще такой, как сегодня, – сойдет. Сперва они начинают ломаться, говорят, что если попадутся кому-нибудь на глаза с нами, то на них ополчатся все жители долины, но мы говорим, чтобы они не валяли дурака, ведем их на то место, где собирались стеречь голубей, и расходимся по своим тайничкам. Брату даже удается несколько раз выстрелить: он уже привык, потому что частенько берет эту девицу с собой на охоту.
Не успел я как следует заняться со своей Аделиной, как в меня снова запускают камнем, который больно ударяет меня в шею. Оглянувшись, я вижу все того же веснушчатого мальчишку. Он удирает, но теперь мне совершенно не хочется за ним гоняться, и я только кричу ему вслед ругательства.
Наконец девушки говорят, что им надо уходить, что им нужно успеть получить благословение.
– Ну и катитесь, и не путайтесь больше у нас под ногами, – говорим мы.
Потом брат рассказывает мне, что обе девицы самые последние шлюхи и что они боятся, как бы местные парни, увидев их с нами, не разозлились и не перестали к ним ходить.
– Шлюхи! – кричу я навстречу ветру, но в душе мне неприятно, что с нами соглашаются идти только такие вот последние шлюхи.
На паперти церкви Сан Козино-е-Дамиано толпятся люди, ожидающие благословения. При нашем приближении они расступаются и кидают на нас недобрые взгляды. Даже священник косо поглядывает на нас, потому что уже три поколения Баньяско ни разу не прослушали ни одной мессы.
Мы идем дальше, и вдруг слышим, как около нас что-то падает.
– Мальчишка! – кричим мы и уже готовы броситься за ним вдогонку.
Но, оказывается, это сорвалась с ветки подгнившая мушмула. И мы снова шагаем по дороге, поддавая ногой камушки.
– Хозяйский глаз, – сказал отец, указывая пальцем на свой глаз – слезящийся глаз старика, без ресниц, с морщинистыми веками, круглый, как глаз птицы, – от хозяйского глаза скотина в теле.
– Угу, – отозвался сын, по-прежнему сидя на краю стола из неоструганных досок в тени огромного фигового дерева.
– Так вот, – снова заговорил отец, все еще держа палец у глаза, – сходи на полосу и посмотри, как жнут.
Сын сидел, глубоко засунув руки в карманы. Слабый ветерок легонько вздувал у него на спине рубашку и шевелил короткие рукава.
– Иду, – сказал он, не двигаясь с места.
Старик глядел на сына, клонившегося под грузом своей апатии, как тростник под ветром, и с каждой минутой им все больше овладевало бешенство. Он таскал на себе мешки со склада, мешал навоз, кричал и приказывал, осыпал ругательствами работников, гнувших спину на его земле, покрикивал на скулившего цепного пса, которого одолевала мошкара. А его сын часами не двигался с места и сидел, не вынимая рук из карманов, уставившись в землю и сложив губы трубочкой, будто вот-вот засвистит: ясно было, что он не одобряет такой траты сил.
– Хозяйский глаз, – сказал старик.
– Иду, – ответил сын и не спеша пошел по тропинке.
Он шел между рядами виноградных лоз, руки в карманах, шаркая подошвами. Отец стоял под фиговым деревом, широко расставив ноги, заложив за спину тяжелые кулаки, и смотрел ему вслед. Несколько раз его так и подмывало крикнуть что-нибудь сыну, но он промолчал и снова принялся перемешивать навоз.
Сын шел, любуясь яркоцветной долиной и прислушиваясь к гудению шершней в кронах фруктовых деревьев. Каждый раз, возвращаясь к себе в деревню после изнурительных, скучных месяцев, проведенных в городах, он словно впервые окунался в этот воздух, в торжественное молчание своей земли, и она отзывалась у него в душе, как забытый голос детства и в то же время как немой упрек совести. Каждый раз, возвращаясь на свою землю, он ждал чуда: «Вот на этот раз вернусь, и все будет не так, все обретет смысл – и полоски темной и светлой зелени по долине, моей долине, и всегда одинаковые движения работающих на полях людей, и каждый выросший в мое отсутствие кустик, каждая ветка. И меня, как моего отца, захватит яростное упорство этой земли, так захватит, что я уже никогда не смогу от нее оторваться».
Под пшеницей, с трудом пробившейся сквозь каменистую почву, было несколько полос, сбегавших по крутому косогору, – желтый прямоугольник среди серых порослей полыни, по обе стороны которого вверху и внизу стояли, словно стражи, два черных кипариса. На поле виднелись люди, сверкали серпы. Желтый цвет мало-помалу исчезал, будто стертый резинкой, и на месте его проступало серое. Хозяйский сын с травинкой в зубах карабкался напрямик по голому склону косогора. Крестьяне, работавшие на полосе, конечно, уже заметили, что он поднимается к ним, и теперь обсуждали его появление. Он знал, что эти люди думали о. нем: старик, мол, бешеный, а сын у него недоумок.
– День добрый, – сказал У Пе, когда хозяйский сын подошел поближе.
– День добрый, – ответил хозяйский сын.
– День добрый, – сказали остальные.
И хозяйский сын ответил:
– День добрый.
Теперь все, что они могли сказать друг другу, было сказано. Засунув руки в карманы, хозяйский сын сел у края стерни.
– День добрый, – донесся сверху еще один голос. Голос принадлежал Франческине, подбиравшей колосья на полосе, лежавшей выше по склону.
Он еще раз сказал:
– День добрый.
Мужчины жали молча. У Пе – живые мощи, обтянутые желтой сморщенной кожей, У Ке – мужчина средних лет, приземистый и волосатый, и Нанин – тощий рыжий парень в майке, бурой от пота: под ней видна была полоса голой спины, которая открывалась при каждом ударе серпа и потом вновь закрывалась. Старая Джирумина собирала колосья, присев на землю, словно большая черная наседка. С полосы, лежавшей выше по склону, слышался голос Франческины: она пела песенку, которую недавно передавали по радио. Каждый раз, как она наклонялась, из-под юбки у нее сверкали голые икры и белые впадины под коленками.