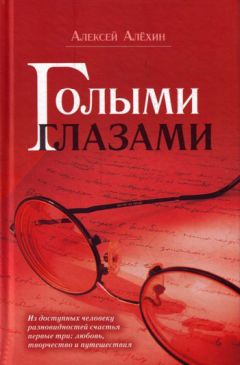А что может быть полней одиночества человека, оказавшегося запертым в музее?
Я отправился на балет. Местная труппа давала «Лебединое озеро», но ты никогда не видала такой трактовки. Фокус заключался в том, что Принц не питал ни малейших чувств ни к Одетте, ни к Одилии, а те к нему. Танец напоминал серию гимнастических упражнений.
Китайцы в зале похохатывали и шумно прочищали нос. Сосед слева от меня, по виду чиновник из министерства культуры, поочередно то выпячивал, то поджимал нижнюю губу, точно перекладывал заспанную подушку. Я бежал после первого акта.
Откроюсь тебе: мне жутко не хватает русских букв на афишах и вывесках.
Чтобы развлечься, я заново обследовал наш «белый остров» и обнаружил появление новых лиц. Похожего на гнома канадского французика без жены, не вытерпевшей и месяца поднебесной скуки. Вечно серьезного индийца, ступающего мелкими шажками в своей белой юбке. Юного очкарика-американца, прилипшего к тягучим глазам своей мулатки, тоже почти девочки. И еще индийскую черепашку с оксфордским дипломом, американским паспортом и космополитическим любопытством ко всему на свете – мы стали почти приятелями.
Других перемен не оказалось. Островитяне изнывали от безделья, устраивали домашние выставки местных художников и посиделки с пивом, время от времени женились на китаянках и вообще жили нереальной жизнью.
Я даже сходил в гостиничный клуб на дискотеку. Там подавали апельсиновый сок с орешками, сложный механический осьминог под потолком шевелил разноцветными прожекторами и зеркальцами, и я танцевал с негритянкой, оставившей на моих руках аромат каких-то пахучих притираний.
Вернувшись домой, я с ужасом поймал себя на мысли, что европейцы стали казаться мне на одно лицо.
Ночью мне приснился спившийся Шаляпин, воротившийся из эмиграции. В длинном расстегнутом пальто с пуговицами на ниточках он рыскал по Тверскому бульвару в поисках опохмелки.
Открыв глаза, я уставился в обезображенный гостиничным тавром пластмассовый бок телевизора – их тут, как лошадей, клеймят раскаленным железом. И ощутил себя безродным «жильцом из 42-го номера», кем и был в глазах прислуги.
Тогда я принялся разъезжать по Пекину на взятом взаймы скрипучем велосипеде.
Иногда я катался вокруг протянувшихся к северу от императорского дворца Задних прудов, где прежде селилась знать и сохранилась масса пришедших в ветхость домов с резными камнями у входа и почерневшими досками ворот. Или заглядывал на маленькие рынки с зелеными россыпями арбузов, возле которых дремлют продавцы в неведомо откуда взявшихся ободранных кожаных креслах. Но чаще, оставив велосипед на стоянке, где вместо номерка дают бамбуковую дощечку с расплывшимися чернильными цифрами, отправлялся бродить по кишащим торговлей улочкам, то вдыхая одуряющий запах кожи, то шарахаясь от штабелей тушенки «Великая стена», то любуясь средневековым городским ущельем, до второго и третьего этажа завешанным, как флагами, сомнительного качества разноцветным тряпьем по баснословно низким ценам.
Так я вышел однажды к восточной стене Запретного города с наружной, непарадной ее стороны. И увидал еще один Пекин.
Скромные седые лачуги вереницей цеплялись друг за дружку на полоске земли меж уходящим в небо серо-кирпичным массивом и туманной зацветшей водой обводного канала. К осыпающемуся подножью стены жались крошечные цветники. Мощенный квадратными плитами узкий проход казался только что выметенным к моему появлению. Здесь было безлюдно и тихо. Только тощий бритоголовый старик отдыхал на вынесенном из дома стуле. Да подальше забавлялся с маленькой обезьянкой мужчина в майке и домашних шлепанцах, а двое мальчишек у его ног, не обращая на зверька внимания, прямо на земле играли в карты. Еще встретилась средних лет женщина с суровым лицом и со шваброй в руках. И все.
Череда домишек справа казалась столь же глухой и непроницаемой, как стена слева. И только журчание льющейся в таз воды и звон посуды из внутренних двориков выдавали присутствие жизни. Трудно было поверить в такое безмолвие и одиночество посреди этого сутолочного, крикливого города. В какой-то миг мне почудилось, что проход никогда не кончится или выведет в незнакомом месте, даже и не в Поднебесной уже.
Но он вдруг оборвался, и я, свернув, очутился у северной стены не так далеко от выхода. По мостику валила выкатившаяся из дворца толпа и растекалась по противоположному берегу канала, пестрому от ларьков под полосатыми тентами. Они напомнили мне парижскую набережную букинистов – только тут торговали не книгами, а всякой горячей и холодной снедью, сладостями и сувенирной дребеденью.
Я почувствовал неодолимое желание присоединиться к этому празднику жизни, был вынесен потоком прямо к ларькам, обернулся – и был вознагражден.
Отсюда, с внешней стороны канала, окружающая дворец стена казалась слоистой горной грядой позади дымящихся над водою ив. И в углу этого каменистого угрюмого массива, как внезапно постигшее город озарение, взметался, громоздясь тяжелыми желтыми крыльями налезающих друг на друга крыш, и обрывался в небе острым пиком терем такой причудливой, неуловимой формы, точно это не он сам, а его отражение в подернутом рябью канале.
Я знаю, что буду скучать по Поднебесной.
В конце концов я дал уговорить себя на еще одно отрепетированное путешествие – к верховьям Хуанхэ.
Поезд тянулся мимо скучных, плохо возделанных полей, даже и не похожих на Китай. Но арбузы дешевели на каждой станции, а на месте, в Иньчуане, ими нас кормили даром. Жаль, тут маршрут обрывался – дальше, вероятно, приплачивали бы едокам.
Изображая иноземных гостей, наша компания выполнила все положенные ритуалы. Прошла через коридор наряженных в розовые и желтые платьица детей, как заведенные махавших веерами и букетами. Выдержала атаку волосатых, с черными бородками молодых художников, похожих на мушкетеров. Высидела концерт, из которого мне запомнился певец с невероятно пронзительным голосом и до того ясным взором, что наводил на мысль о слабоумии. И принялась осматривать город.
Он оказался захудалой провинциальной столицей. С маленькой красной башенкой, в миниатюре копирующей пекинскую Тяньаньмэнь и с таким же портретом кормчего, на главной площади. С базаром, на который из окрестных городков съезжаются автобусы, навьюченные привязанными к крыше огромными тюками и картонными ящиками. С брезентовыми тентами, под которыми торгуют заваренным в разнокалиберных баночках жидким чаем. Со старым мороженщиком в соломенной шляпке и с длинной серебряной бородой – ни дать ни взять старик Хоттабыч. С милиционерами в белых несвежих кителях.
Но зато я увидел в музее то, чего уже не рассчитывал отыскать.
Обычные на первый взгляд поднебесные фигурки и барельефы точно проснулись. На лицах появилось выражение. Животные обрели подвижность. Разносчик овощей качнул корзинами на коромысле. Мельник крутанул мельницу. Девушка захотела прикосновения руки…
Я искал объяснений чуду и получил его после долгих выпытываний. Это не поднебесное искусство. Оно относится к культуре Западной Ся – до того, как та была проглочена и омертвлена Срединной империей.
И я понял, что не переживу превращения в китайца....
длиной восемнадцать тысяч ли, писанное на тюке с товаром. С точкой на Ярославском вокзале
Отъезд русского поезда – еженедельное событие, потрясающее Пекинский вокзал.
Это и правда поезд из поездов.
За час до отхода стекаются к оцеплению китайцы с кипами бракованных кожаных курток, футболок в английских надписях с орфографическими ошибками, резиновых кроссовок. Поляки с грузовиками тряпья. Турки с джинсами, румыны с шелком, русские мешочники, прозванные «утюгами», монголы, какие-то русскоговорящие негры…
Места первого класса раскуплены дипломатами, скопившими за годы поднебесного сидения такую уйму ваз, шуб, холодильников, телевизоров, сервизов и двуспальных кроватей, что спать дорогой им предстоит в специальных разборных гробиках, что мастерит из фанеры посольский умелец, обратив купе в доверху забитую добром этажерку.
Все тронулись в путь.
Меня подмывает сравнить отправление этого эшелона с выступлением торгового каравана. Но то, вне сомнения, было величественным зрелищем, исторгавшим слезы у остающихся близких.
Тут тоже плачут.
По законам не объявленной вслух железнодорожной войны между двумя столицами, русской и поднебесной, ворота на перрон раздвигают в последний момент, и толпы отягощенных поклажей путешественников начинают брать вагоны штурмом. Сумки, ящики, тюки заталкивают в двери и окна, прямо по головам провожающих. И все равно, когда состав трогается, платформа усеяна забытыми навсегда коробками.
Страсти же переместились внутрь начавшего пританцовывать на стыках вагона. Вещей куда больше, чем мыслимо распихать. А «утюги» оказались и вовсе без мест. В Москве они брали билеты в два конца, но не смогли проштемпелевать их в Пекине, где промысел этот в лапах уйгурской мафии. Настал звездный час проводников.