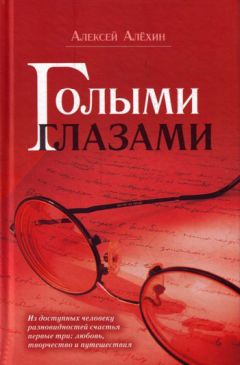И мне на ум все чаще приходили мысли о беседах под вечными абажурами московских кухонь. О задних огоньках машин, алыми пятнами озаряющих снежное месиво на перекрестках. О зеленых теремах летящего встречь из пелены Ярославского вокзала.
Поднебесная отпускала меня....
Транссибирский путь, 1-й – 6-й дни
написанное по привычке. Об одном чайном доме, монетах с дыркой, пыльной буре, термосах и прочем, что встречается в тех местах. В нем я прощаюсь с Поднебесной и соглашаюсь с вечностью
Не так-то легко, мой друг, избавиться от привычки к этим письмам.
И если тебе, как и мне, охота еще поговорить о Поднебесной, у меня имеется повод.
Я болею. Москва-река за окном замерзла и стала белой, но мороз нарисовал на стекле бамбук, словно на прозрачных ширмах. И мне легко вообразить себя в островерхой беседке у маленького гостиничного пруда, откуда на зиму спускают воду, и только узкие желтые листочки шуршат по дну, точно сухие тени рыб, обитавших тут летом. Иногда я приходил туда вечером полистать дневные впечатления и сочинить письмо тебе.
Так получилось, что почти все время я провел в Пекине, в самой невыразительной части страны.
Мне не довелось побывать в южных провинциях, послушать тамошнюю мелодичную речь. Или хотя бы в Ханчжоу, где, если верить служаке Марко Поло, женщины столь прелестны и искусны в любви, что отведавшие их чужестранцы навеки теряют покой.
Может, оно и к лучшему, а то б ты не дождалась меня.
Но и там, где я жил, нескончаемо путешествие по иному миру: он открывается за каждой мелочью, как за дверцей.
О многом так и не случилось тебе порассказать.
Вот хотя бы о «чайном доме Лао Шэ», где он, говорят, любил когда-то сиживать.
В сущности, это китайская разновидность кабаре – с несколькими рядами столиков, носатыми самоварами, «императорскими» желтыми чашечками и узкой сценой, затянутой в малиновый бархат.
Перед гостями, облаченными кто в вечернее платье, кто в синий маоцзэдуновский китель, а кто в белоснежный тренировочный костюм для парадных выходов, ставят по блюдечку незатейливых сластей. Из латунных чайников разливают кипяток. И показывают представление.
Под пронзительную, но не лишенную рисунка музыку звучат энергичные дуэты из «пекинских опер» – немного визгливые на европейский слух, с мужскими голосами выше женских и все же цепляющие слушателей за какую-то там натянутую струну. Фокусник извлекает длинной удочкой живых рыбок из карманов зрителей. Старик-комик с раскрашенным мелом лицом, потешавший публику еще в гоминьдановское время, бодро сыплет прибаутками. А на громадной фотографии, глядя куда-то в сторону, молча покуривает ироничный классик, давший имя заведению.
Или вот о Минских гробницах в Долине смерти, протянувшейся между лесистых холмов: расставленные по ней багровые башни под желтыми крышами и правда наводят смутную тревогу. А мрачный подземный дворец усопших императоров напоминает станцию московского метро постройки первой очереди – что-то вроде «Охотного Ряда». Я еще купил там у храмового проходимца позеленевшую монету с квадратной дыркой, правда подозрительно легкую.
Да, и о пыльных бурях. Когда ветер с Лессового плато приносит в пекинское небо тысячи тонн каменной муки, прямо с жерновов времени, оно меняет цвет и концы улиц пропадают в желто-красном тумане. Прохожие, автомобили, разложенный на лотках товар покрываются слоем тончайшей пудры. Деревья сгибаются и трещат под напором потяжелевшего воздуха. Люди отворачивают лица и отбрасывают на землю слабые красноватые тени. И голубой глаз солнца, пробиваясь через глиняные одеяла облаков, грозно взирает на ничтожный город.
А еще про пекинский зоопарк, где носороги прогуливаются в складчатой, слишком просторной одежде, жирафы по-детски поджимают нижнюю губу, нелепые кенгуру похожи на расставленные по лужайке складные стулья, крокодил широк, как диван в чиновничьем кабинете, и глядит ненавидящим желтым оком, а мудрое человекообразное с крестьянской вдумчивостью поедает кусок вареного мяса, устроившись на виду, чтоб любоваться паясничающей за стеклом толпой.
И еще о том, как тысячи велосипедов по утрам пережевывают пекинские улицы.
И об обуви Великого кормчего с новехонькими подметками, будто он парил над коврами.
О фотографии мальчика Пу И, последнего из богдыханов, попавшейся мне в книге про старый Китай. Как страшно быть императором в четыре года.
Об императорском супе с мандаринами, каким угощали меня по случаю праздника.
О термосе как элементе великой китайской культуры…
В один из тоскливых, застрявших между летом и осенью дней накануне отъезда я выбрался в главный ламаистский храм поднебесной столицы – Ламасерию.
У входа пестро раскрашенные деревянные гиганты со зверскими лицами, с мечами и лютнями в руках, как обычно, охраняли покой золотоликих будд, наводя ужас на грешников.
Восемнадцать апостолов-алоханей, сидевших двумя шеренгами вдоль стен, были молоды, розоволицы, черноусы и чем-то напоминали заговорщиков.
Но павильон за павильоном мне открывались великолепные миры. Так путешествующий в горах за каждым следующим перевалом обнаруживает очередную райскую долину, еще чудесней предыдущей.
Члененное свисающими с небес драпировками ало-сине-золотое пространство легко вбирало входящего. Световой люк в потолке струил почти лунный свет на увенчанную тиарой многометровую фигуру Одинокого Будды. Коричневые монахи тенями скользили по своим делам. Только самую главную высотную статую я не смог разглядеть: реставраторы забрали ее от щиколоток многоэтажными лесами. Но мне хватило и запылившихся квадратных ступней, вдоль которых я походил с трепетом в сердце.
Вне главных святилищ там еще целая россыпь каких-то кумирен и павильончиков, набитых большими и малыми пагодами, стелами, гобеленами, утварью и изваяниями, делающими честь воображению и искусству мастеров.
В чем-то вроде часовни я обнаружил буддийскую «троицу», четвертым членом которой казался сторож-монах, не то молившийся, не то дремавший в деревянном кресле. Лишь неподвижный огонек масляного светильника озарял их каменные лица, опутанные, как паутиной, тонкими прядями дымка, разматывавшегося с воткнутых в золу курительных палочек.
В другом павильоне паломника поджидает пара громадных чернолаковых львиц, а может, пантер, каждая величиной с автомобиль-микролитражку. Их приоткрытые оскаленные пасти и даже ноздри забиты мелкими бумажными купюрами и алюминиевыми монетками, которыми заботливые верующие кормят священных животных.
Был там еще какой-то буддийский Дон Кихот с медным тазиком на голове и верхом на своей карикатурной кляче. Понятия не имею, что за персонаж, но Пикассо от него не отрекся бы…
Устав удивляться, восторгаться, трепетать, я вышел посидеть на скамейке под деревцем с резной листвой.
Среди павильонов, скрывающих улыбчивых и молчаливых будд, между все повидавших, старых, как вера в Бога, деревьев порхали, присаживались, вздрагивая коричневыми крылышками, на морщинистые стволы, занимались любовью бабочки. И глядя на их игру я примирился с нескончаемостью Китая....
Там и тогда Путевые заметки, 1971–1974
Фотографам Виктору Ершову, Валерию Селезневу и другим
В Тбилиси прилетели ночью. В черный нагретый воздух, шевелящийся архипелагами огней.
В гостинице – кресла с подголовниками: эдакие подушечки на кожаных ремешках. У них спортивный вид, вроде как шлем на мотоциклисте.
Вид сверху на черную, в чешуйках серебра Куру. Ярко подсвеченное каменное кольцо театра или цирка.
Утром открылся слепящий солнцем город, весь в балкончиках, галереях, лесенках, деревянных решетках. Тбилисская архитектура по природе конструктивна, поэтому новейшие постройки теряются среди старых.
Разноцветные воды в заведении Логидзе: розовые, красные, пунцовые, зеленая, желтая… Пьем все подряд. Желтая дыня
Старуха торгует дынями на проспекте Руставели. Останавливает прохожих, а сторговавшись, направляется к заросшему щетиной грузину, что пристроился с независимым видом в сторонке. Быть может, этот тип с мешками – ее сын. Глянув, нет ли милиции, он забирает деньги и взамен вынимает дыню. Старуха несет ее покупателю, сын отворачивается непричастно.
Мы купили одну, небольшую, и тут же освежевали ее перочинным ножиком. Отъели несколько долек. Потом пошли по проспекту дальше и свернули по переулкам к Хлебной площади.
Дыня, несомая в руке, как фонарь, горела в сумерках желтым светом. Несколько раз мы продолжали ее, останавливаясь, пока не прикончили в каком-то дворе. Всего получилось шестнадцать долек.
Переулки здесь, как и повсюду, живописней улиц. Арки на каждом шагу открывают глазу дворики с разноцветным бельем и своею жизнью. Под сводами арок на вынесенных из дома стульях восседают старухи и молча глядят на улицу. Расположение их и позы столь выразительны, что наводят на мысль о знакомстве здешних обитателей с законами театральной мизансцены.