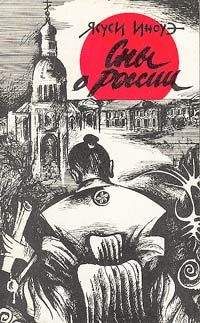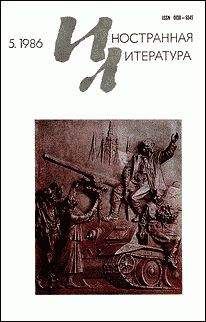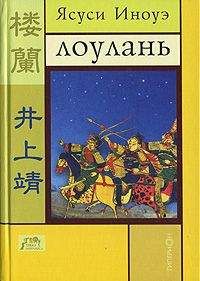Исокити с большим уважением относился к Кириллу Лаксману как к ученому и последние годы пребывания в России, должно быть, лелеял мечту вернуться на родину именно для того, чтобы показать ее Лаксману. Но когда Исокити ступил на родную землю, он понял, что приезд Кирилла Лаксмана в Японию — такой приезд, каким он себе его представлял, — несбыточная мечта.
«А что же меня влекло на родину?» — подумал Кодаю. И ответил не столько Исокити, сколько самому себе:
— Я… я хотел вернуться на родину, чтобы рассказать о том, что повидал на чужбине и чего никогда не видели мои соотечественники. Я встретил на своем пути много удивительного и понял, что должен обязательно вернуться. Чем больше я видел интересного на чужбине, тем сильнее становилось желание вернуться на родину. Мы и правда повидали много такого, что нашим соотечественникам даже не снилось. И вот мы вернулись. Но, — продолжал Кодаю после короткой паузы, — теперь я думаю, что все виденное нами останется при нас и другие о нем ничего не узнают. Да что я говорю! Все, что мы увидели и узнали, нам следует тщательно скрывать у себя на родине. Вот каков печальный итог…
Через девять месяцев по прибытии в Эдо Кодаю и Исокити отправили на постоянное поселение на. плантацию, где выращивались целебные травы. Им выдали пособие — Кодаю тридцать рё,[38] Исокити двадцать, — запретив отлучаться с плантации и свободно общаться с посторонними. Им даже не разрешили работать па плантации. Оба они были лишены возможности вернуться в родную деревню и обречены находиться па плантации до самой смерти. Когда они прибыли на место своего поселения, Кодаю исполнилось сорок четыре года, Исокити — тридцать один.
Первого ноября 1795 года Кодаю и Исокити пригласил к себе известный в те времена «голландовед»[39] Оцуки Гэнтаку. Получить разрешение на визит помог Кацурагава Хосю, ведь потерпевшим кораблекрушение строго-настрого запретили покидать пределы плантации.
Кодаю был настроен особенно мрачно и, несмотря на полученное разрешение, опасался идти к «голлан-доведам». Фактически он мало чем отличался от узника, да и в мыслях своих был очень далек от всего, что его окружало. Исокити же, напротив, считал необходимым использовать любую возможность, чтобы встретиться с новыми людьми, оказаться за пределами плантации. Он и уговорил Кодаю посетить Оцуки Гэнтаку.
Место встречи было обставлено на иностранный манер. На сдвинутых столах, вокруг которых сидели двадцать девять гостей, лежали ножи и вилки. На стене, как принято у врачей-голландцев, висел портрет Гиппократа, считавшегося отцом западной медицины.
По просьбе Кацурагава Хосю Кодаю пришел к Оцуки в русской одежде. Кодаю усадили и стали расспрашивать о России. Он решил рассказать этим людям обо всем, что ему довелось увидеть в России, но вскоре убедился, что многого они не могут понять, и вынужден был кое-что обойти молчанием, как сделал это во время встречи с сёгуном Иэнари.
Но чем больше Кодаю говорил о России, тем печальней у него становилось на душе. Он вдруг ощутил страшную усталость и умолк. Тогда заговорил Кацурагава. Он поведал о жизни и скитаниях Кодаю, о его встречах с императрицей, обо всем, чего недосказал Кодаю.
Кодаю слушал не очень внимательно, иногда поглядывал в сторону говорившего, потом переводил взгляд на слушающих. У него было странное ощущение, что все это его совершенно не касается.
Голос Кацурагава звучал в ушах Кодаю все слабее, а перед глазами все явственнее всплывало лицо другого человека — Радищева. Лицо ссыльного дворянина, который сидел в уголке гостиной губернатора Тобольска и рассеянно слушал, как губернатор рассказывал о нем гостям. «Наверное, у меня сейчас такое же выражение лица», — подумал Кодаю.
Возвращаясь домой, Кодаю заговорил почему-то о Невидимове, о котором не вспоминал со времен Амчитки.
— Как жаль, что в Охотске не было времени по-настоящему проститься с Невидимовым, — сказал он, обращаясь к Исокити. — Где-то он теперь? До сих пор не могу себе простить, что пришлось так холодно расстаться с ним.
— Невидимой? Уж конечно, он сейчас где-нибудь в Охотске или Якутске, — сказал Исокити, глядя куда-то вдаль.
— Значит, они оба в Сибири, — как бы про себя произнес Кодаю. Он думал о Радищеве и Невидимове.
— Послушай, Исокити! — сказал Кодаю спустя некоторое время. — А ведь мы с тобой, можно считать, в ссылке. Много лет скитались по свету и наконец прибыли к месту ссылки. Так ведь? Значит, о России думать нельзя, нельзя!
Долгие годы, проведенные на чужбине, Кодаю убеждал себя не думать о родине. Теперь родину в его мыслях заменила далекая Россия. И Кодаю решил не думать больше о России.
О последующей жизни Кодаю и Исокити почти ничего не известно. Поэтому и автор данной книги вынужден завершить на этом повествование о десятилетних скитаниях потерпевших кораблекрушение жителей Исэ…
* * *
Существование Кодаю и Исокити в Японии в отличие от бурной, полной волнений жизни в России окутано мертвящей тишиной забвения. Кстати говоря, их однажды уже «похоронили». Это было на третий год после того, как судно «Синсё-мару» потерпело кораблекрушение. Все решили, что экипаж погиб. В Сироко был установлен памятник для поминовения погибших, а в Эдо, на буддистском кладбище Кайкоин, — памятный камень в форме парусника.
Вскоре после переезда на плантацию Кодаю женился на совсем молодой женщине — некоторые даже принимали ее за дочь Кодаю. Судя по всему, первая жена Кодаю, как он и предполагал, вышла замуж, забрав с собой ребенка. В некоторых записях отмечается, что к тому времени, когда Кодаю вернулся на родину, его матери, жены и ребенка уже не было в живых, — трудно сказать, насколько достоверны эти сведения.
Кодаю и Исокнти были лишены возможности побывать в своих родных местах, но родственникам не запрещалось навещать их. Правда, для каждого такого посещения требовалось специальное разрешение. Известно, что однажды родственники приезжали к Кодаю и Исокнти и те с гордостью демонстрировали им русские часы, серебряные и медные монеты, бумажники.
Единственно достоверные сведения об Исокнти касаются его поездки в 1798 году в родную деревню на празднование Нового года. В деревне он пробыл месяц. Основываясь на его рассказах, Монах Дзицудзё изхрама Синкайдзи в Вакамацу описал странствования Кодаю. Рукопись называлась «Книга о необыкновенном». Сохранилась ее копия.
В 1797 году у Кодаю родился сын — Дайкокуя Байин. В четырнадцать лет он стал работать в лавке посыльным. Больше всего на свете Байнн любил книги. После кончины Кодаю он покинул плантацию и занялся наукой. Впоследствии имел многочисленных учеников и последователей,
Остаток жизни Кодаю провел словно узник. Умер он пятнадцатого апреля 1829 года семидесяти восьми лет от роду. К тому времени его сыну исполнилось тридцать два года, а Исокити шестьдесят пять лет. Исокити пережил Кодаю на десять лет. Умер он в 1839 году в возрасте семидесяти пяти лет. Исокити похоронили в Эдо на том же кладбище храма Коандзи (район Хонго, Мотомати), что и Кодаю. Могилы их были рядом. По словам человека, побывавшего на этом кладбище в 1929 году, в книге усопших, имевшейся в ту пору в храме, есть соответствующая запись о Кодаю и Исокити, однако могилы их в то время обнаружить уже не удалось.
А теперь несколько слов о Кирилле Лаксмане, который принял столь большое участие в судьбе потерпевших кораблекрушение японцев.
Поездка его сына Адама с миссией в Японию завершилась, по мнению государственных деятелей, успешно. Адам даже был награжден орденом. Однако Кирилл Лаксман относился к этому скептически. Вопрос же о его собственной поездке в Японию оставался нерешенным.
В 1794 году, через год после возвращения Адама в Россию, Кирилл Лаксман поехал в Петербург, где встретился с влиятельными сановниками и предложил им проект отправки в Японию новой миссии. Против проекта решительно выступил богатейший купец Шелехов, утверждая, что это потребует много затрат, а польза будет крайне невелика. Каждая сторона старалась завоевать себе сторонников. Наконец после длительных и горячих споров точка зрения Лаксмана взяла верх. Лаксман получил разрешение отправиться в Японию с Камчатки как частное лицо и незамедлительно приступил к осуществлению своего плана.,
Зимой 1795 года Лаксман выехал и." Петербурга по Сибирскому тракту, однако, не доехав до Тобольска, тяжело заболел и вскоре скончался. В том же году умер и Шелехов.
А какова же дальнейшая судьба Синдзо и Сёдзо? О ней известно чрезвычайно мало. После отъезда Кодаю и Исокити в Японию они, по-видимому, особенно сильно ощущали одиночество. В Иркутске события шли своим чередом. О них отмечалось в «Иркутских летописях», собранных и опубликованных в 1911 году П. И. Пежемским и В. А. Кротовым: