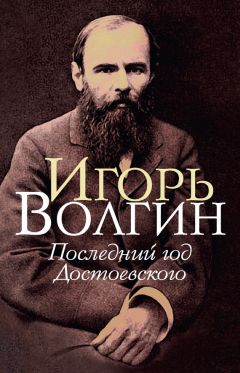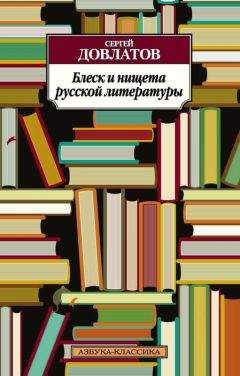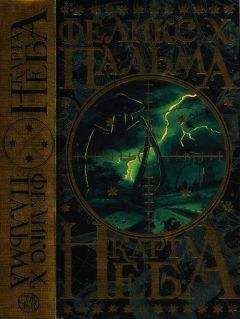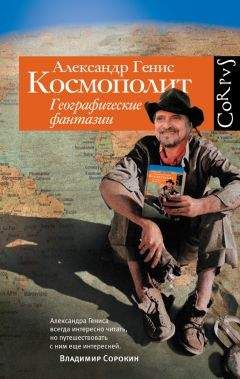Так мотылек Митя стал светлячком. Духовные метаморфозы возвращают роман к теме границ, но это уже одна, главная, а может быть, и единственная граница, отделяющая мнимый мир повседневности от подлинного, чистого существования, источник которого мистик Пелевин помещает внутрь нашей души.
Вся проза Пелевина — руководство к пересечению этого трансцендентного рубежа, уроки выращивания той метафизической реальности, которой нет, но которую можно создать.
В поздних фильмах Феллини самое интересное происходит в глубине кадра — действия на переднем и заднем плане развиваются независимо друг от друга.
В фильме «Джинджер и Фред» трогательный сюжет разворачивается на фоне придуманных режиссером безумных рекламных плакатов, мимо которых, не замечая их, проходят герои.
К такому же приему, требующему от читателя повышенной алертности, прибегает и Пелевин. Важная странность его прозы заключается в том, что он упрямо вытесняет на повествовательную периферию центральную идею, концептуальную квинтэссенцию своих сочинений. Обо всем по-настоящему серьезном здесь говорится вскользь. Смысл происходящего раскрывается всегда неожиданно, невпопад. Наиболее существенные мысли доносят репродуктор на стене, обрывок армейской газеты, цитата из пропагандистской брошюрки, речь парторга на собрании.
В рассказе «Вести из Непала» заводской репродуктор бодрым комсомольским языком пересказывает тибетскую «Книгу мертвых»: «Современная наука установила, что сущностью греха является забвение Бога, а сущностью воздушных мытарств является бесконечное движение по суживающейся спирали к точке подлинной смерти. Умереть не так просто, как это кажется кое-кому…»
Информационный мир у Пелевина устроен таким образом, что чем меньше доверия вызывает источник сообщения, тем оно глубокомысленнее. Объясняется это тем, что вместо обычных причинно-следственных связей тут царит синхронический, как назвал его Юнг, принцип. Согласно ему явления соединены не последовательно, а параллельно. В таком единовременном мире совпадения не случайны, а закономерны.
Пелевин использует синхронический принцип, чтобы истребить случай как класс. В его тексте не остается ничего постороннего авторской цели. Поэтому все, что встречается на Пути героя, заботливо подталкивает его в нужном направлении. Как в хорошем детективе или проповеди, каждая деталь тут — предзнаменовение, подсказка, веха.
В поэтике Пелевина не может быть ничего постороннего замыслу потому, что в его мире случайность — непознанная (до поры до времени) закономерность. Текст Пелевина не столько повествование, сколько паломничество. Тут все говорит об одном, а значит, и автору, в сущности, безразличен предмет разговора: не материал важен, а его трактовка. Потаенный смысл обнаруживается в любом, в том числе и самом тривиальном сюжете: чем более он избит, тем ярче и неожиданнее оказывается скрытое в нем содержание.
Впрочем, основной тезис всех его книг не принадлежит автору — скорее, говоря по-пелевински, автор принадлежит ему. Речь идет об универсальной для современной культуры проблеме исчезнувшей реальности. Решая ее, всякая книга норовит сегодня стать репортажем из бездны. Автор делает читателя свидетелем череды кризисов. Сперва он демонстрирует исчезновение объективной реальности. Затем на глазах пораженных зрителей автор растворяет в воздухе и субъект познания — собственно личность. Заведя нас в эту гносеологическую пропасть, художник оставляет читателя наедине с пустотой.
Ее-то Пелевин и сделал фамилией героя своего дзен-буддистского боевика «Чапаев и Пустота». Буддизм в нем не экзотическая система авторских взглядов, а неизбежный вывод из наблюдения над современностью. Однако изысканная прелесть этого романа не в месседже, а в медиуме.
Заслуга автора в том, что путь от одной пустоты к другой он проложил по изъезженному пространству. Роман заиграл от того, что содержание — буддистскую сутру — Пелевин опрокинул в форму чапаевского мифа.
Взяв фольклорные фигуры чапаевского цикла — Василия Ивановича, Петьку, пулеметчицу Анку и Котовского, Пелевин превратил их в персонажей притчи. Чапаев в его романе стал аббатом, хранителем дхармы, мастером дзена, учителем, который в свойственной восточным мудрецам предельно эксцентрической манере ведет к просветлению своего любимого ученика — петербургского поэта Петра со странной фамилией Пустота. Нам он больше известен в качестве чапаевского адъютанта Петьки.
Исходным материалом для такой метаморфозы Пелевину послужили бесчисленные чапаевские анекдоты, в которых он увидел дзеновские коаны, буддистские вопросы без ответа, вроде знаменитого «Как услышать хлопок одной ладони?» Коаны призваны остановить безвольное брожение мысли по наезженной колее логичных, а значит, поверхностных решений. К правильному решению коана нельзя прийти — только прорваться, совершив ментальный кульбит. В этом и помогает ученику учитель, часто прибегая к самым диким выходкам. В романе Пелевина каждый коан с сопутствующим объяснением служит Петьке очередной ступенью на пути к просветлению.
Вот как это звучит в тексте:
«— Петька! — позвал из-за двери голос Чапаева, — ты где?
— Нигде! — пробормотал я в ответ.
— Во! — неожиданно заорал Чапаев, — молодец! Завтра благодарность объявлю перед строем… Все, что мы видим, находится в нашем сознании, Петька. Поэтому сказать, что наше сознание находится где-то, нельзя. Мы находимся нигде просто потому, что нет такого места, про которое можно было бы сказать, что мы в нем находимся. Вот поэтому мы нигде».
Безусловный комизм этого чапаевского апокрифа ни в коем случае не отменяет серьезности темы. Она только выигрывает от того, что автор ведет разговор о высших истинах в разных стилевых регистрах. Вот, например, теологический диспут о природе отечественной религии на блатной фене: «Может, не потому Бог у нас вроде пахана с мигалками, что мы на зоне живем, а наоборот — потому на зоне живем, что Бога себе выбрали вроде кума с сиреной».
Каждая из десяти глав романа написана на языке, отражающем тот или иной уровень реальности, в рамках которой автор проводит испытание своей правды. Стилистический метампсихоз, перевоплощение идеи в разные языковые формы не меняет ее не выразимой словами сути. При этом Пелевин обращает всю книгу в коан — как написать роман о том, о чем написать вообще нельзя?
Судить, удалось ли ему разрешить этот парадокс, Пелевин предоставляет читателю. Себе же, автору, он отводит более скромную роль разрушителя иллюзий: «Боже мой, да разве это не то единственное, на что я всегда только и был способен — выстрелить в зеркальный шар этого фальшивого мира из авторучки?»
Сибирь, первая половина XXI века, строго засекреченная лаборатория. В ней работают филологи-биологи, говорящие на почти непонятной смеси русского и китайского языков (в помощь читателю прикладывается словарь). В подземных бункерах они проводят изуверский эксперимент — военные литературоведы выращивают клонов великих русских писателей. Воскрешенные садистской генетикой авторы пишут новые сочинения (образцы прилагаются). В процессе письма в их телах накапливается таинственная субстанция — голубое сало, за которым охотятся члены секретного ордена или братства…
Все эти события составляют только первую треть романа Владимира Сорокина «Голубое сало». От этой книги невозможно оторваться — даже когда хочется. А это, как всегда с его вещами, рано или поздно случается почти с каждым.
Знаменитый эпатажем Сорокин — автор не для всех читателей. Тем удивительней, что их становится все больше. Сорокин постепенно приучил аудиторию считаться со своей небрезгливой поэтикой. Одни — ученые слависты всех стран и народов — читают его ради диссертации «Категорический императив Канта и фекальная проблематика Владимира Сорокина» (название подлинное). Другие — необремененные степенями — ищут в книге эмоциональные переживания, что вызывают американские горки: сладкий ужас у «бездны мрачной на краю». Третьи ревниво сравнивают успехи Сорокина с другими русскими бестселлерами — романами Пелевина.
Я не только сочувствую первым и вторым, но и разделяю азарт третьих. Мне тоже самым интересным в сегодняшней литературе кажется соперничество Пелевина с Сорокиным.
Однажды в Москве это заочное соревнование предстало перед моими глазами самым наглядным образом. В книжном магазине на Тверской плашмя лежали боевики. Вершину пирамиды делили два стоящих спиной к спине томика Пелевина и Сорокина. Они будто проросли сквозь отечественные лубки. Оправданность такой книготорговой метафоры в том, что оба писателя работают с популярными жанрами, используя их в качестве гумуса для своей прозы.