И он ворвался под навес, куда не ступал уже много лет.
— Отец, — начал он. — Хоть ты и не достоин, чтобы тебя так называли, но я всё же обращусь к тебе так.
— Не надо меня так называть, — замахал руками отец. — Куда уж мне.
— Лань Лянь, — продолжал Цзиньлун. — Скажу тебе лишь одно: ради Цзефана, ради тебя самого вступайте в коммуну. Оба. Нынче я главный, вступишь в коммуну — не позволю тебе ни единого дня тяжёлого труда. А если и на лёгкую работу не захочешь, тогда просто отдыхать будешь. Годов тебе уже немало, пора и поблаженствовать.
— Какое мне блаженствовать, — холодно отозвался отец.
— Да ты заберись на помост и оглянись по сторонам, на уезд Гаоми посмотри, на провинцию Шаньдун, на двадцать девять провинций, городов, автономных районов, кроме Тайваня — вся страна красная, лишь у нас в Симэньтуни одна чёрная точка, и эта чёрная точка — ты!
— Вот уж, ети его, слава — одна точка на весь Китай! — съязвил отец.
— И мы тебя сотрём, эту чёрную точку! — заявил Цзиньлун.
Отец достал из-под кормушки измазанную в навозе верёвку и бросил перед ним:
— Ты вроде хотел меня на абрикосе подвесить? Валяй!
Цзиньлун аж отпрыгнул, словно это была не верёвка, а ядовитая змея. Оскалив зубы, он сжимал и разжимал кулаки, засунул руки в карманы, потом снова вытащил. Достал из кармана сигарету — он начал курить после назначения председателем — и прикурил от золотистой зажигалки. Морщил лоб, видно, в глубоком раздумье. Потом швырнул сигарету на землю, растоптал и бросил мне:
— А ну, Цзефан, выйди!
Я глянул на верёвку на земле, на Цзиньлуна — длинного и тощего, на кряжистую фигуру отца, прикидывая, кто из них возьмёт верх, случись потасовка, и останусь ли я безучастным зрителем, или приму чью-то сторону, а если приму, то чью именно.
— Говори, если хочешь что сказать, покажи, на что способен! — сказал отец. — А ты, Цзефан, не уходи, оставайся здесь, смотри и слушай.
— Ладно, — плюнул Цзиньлун. — Ты считаешь, что я не посмею повесить тебя?
— Ты-то посмеешь, — хмыкнул отец. — Ты на всё готов.
— А ты не перебивай. Делаю тебе поблажку только из-за матери. Не хочешь вступать в коммуну — умолять не станем, никогда класс пролетариата ничего не просил у капиталистов. Завтра соберём общее собрание, чтобы отметить вступление в коммуну Лань Цзефана — с землёй, с сохой, с сеялкой и с волом тоже. Всё торжественно, Цзефан будет нарядный, и вола украсим. А ты в это время останешься сидеть тут один. Ох, и тяжело же станет у тебя на душе, когда прямо перед навесом будут грохотать гонги и барабаны, взрываться хлопушки… Полная изоляция: жена живёт отдельно, родной сын и тот ушёл, единственный, кто не отвернётся, — вол, и его уведём силой. Какой смысл тебе жить? На твоём месте, — тут Цзиньлун пнул лежащую на земле верёвку и бросил взгляд на балку навеса, — я закинул бы эту верёвку на балку и повесился!
Он повернулся и вышел.
— Ах ты ублюдок злобный! — Отец аж подпрыгнул, выругавшись, и в изнеможении осел на кучу сена у кормушки.
Меня охватило неописуемое страдание. Злоба Цзиньлуна потрясла до глубины души. Вдруг стало ужасно жалко отца и так стыдно, что я отвернулся от него, стал пособником злодея, как говорится, послужил тигру призраком,[139] помог Чжоу в его жестоких деяниях.[140] Я бросился к его ногам, схватил за руки и воскликнул сквозь слёзы:
— Никуда не буду вступать, отец, пусть на всю жизнь останусь холостяком, буду с тобой, буду единоличником до конца…
Он обнял мою голову, всхлипнул пару раз. Потом оттолкнул, вытер глаза и выпрямился:
— Ты уже мужчина, Цзефан, и должен отвечать за свои слова. Давай вступай, забирай соху, забирай сеялку… — Отец посмотрел волу в глаза, вол тоже посмотрел на него. — Вола тоже забирай!
— Отец! — испуганно вскричал я. — Ты на самом деле хочешь пойти по дорожке, которую он тебе указал?
— Успокойся, сынок. — Отец поднялся на ноги. — Твой отец не ходит там, где ему указывают, он идёт своей дорогой.
— Отец, только прошу тебя, не вздумай вешаться…
— Да как можно! У Цзиньлуна совести ещё немного осталось. Ему, конечно, ничего не стоит натравить людей, чтобы со мной покончили, как пиннаньские разделались со своим единоличником. Но тут он дал слабину. Надеется, что я сам покончу с собой. А как я помру, так это чёрное пятнышко на всём уезде, на всей провинции, на всём Китае само собой и сотрётся! Но я помирать не собираюсь. Соберись они разделаться со мной, мне с ними не совладать, но чтобы я сам загнулся — пусть и не надеются! Ещё поживу, пусть эта чёрная точка на весь Китай остаётся!
ГЛАВА 20
Лань Цзефан предаёт отца и вступает в коммуну. Вол Симэнь жертвует собой во имя великого дела
Я вступил в народную коммуну — с одним целым шестью десятыми му земли, с сохой, сеялкой и волом. Когда я вывел тебя из-под навеса, во дворе послышались взрывы хлопушек, загрохотали гонги и барабаны. Среди дыма и конфетти толпа подростков в серых, якобы армейских шапках наперебой расхватывала петарды с фитилями. Мо Янь по ошибке схватил петарду без фитиля, раздался хлопок, и ему разорвало ладонь между большим и указательным пальцами. Он аж перекосился от боли. Так ему и надо. В детстве мне тоже чуть палец не оторвало петардой, и вдруг вспомнилось, как отец лечил мне его мучной болтушкой. Обернувшись, я посмотрел на него, сердце просто разрывалось. Он сидел на куче нарезанной соломы, глядя перед собой на свёрнутую кольцом верёвку. Меня охватило страшное беспокойство:
— Отец, ты уж, пожалуйста, выкинь это из головы…
Не желая слушать, он махнул пару раз рукой. Я вышел на солнечный свет, оставив его во мраке. Хучжу нацепила мне на грудь большой красный цветок из бумаги и улыбнулась. От её лица пахнуло лосьоном «подсолнух». Хэцзо нацепила такой же цветок волу на обрубленный рог. Вол тряхнул головой, и цветок полетел на землю.
— Забодает! — притворно взвизгнула она, повернулась и побежала прочь, оказавшись в объятиях брата.
Он холодно оттолкнул её и направился к волу. Похлопал его по голове, погладил здоровый рог, потом обрубленный.
— Ну, вол, ты вступаешь на большой светлый путь, — сказал он. — Добро пожаловать!
Я видел, как глаза вола сверкнули, будто огнём, но на самом деле это были слёзы. Отцовский вол походил на тигра, у которого вырвали усы, — никакого грозного вида, послушный как котёнок.
Мои мечты сбылись, меня приняли в хунвейбиновскую организацию брата. Кроме того, в пьесе «Красный фонарь» мне дали роль Ван Ляньцзюя. Всякий раз, когда Ли Юйхэ сурово и справедливо бросал мне «Ах ты предатель», я тут же вспоминал, как то же говорил отец. Я всё больше чувствовал, что, вступив в коммуну, предал отца и очень переживал, что он покончит с собой. Но он не повесился и не прыгнул в реку. Из комнаты перебрался под навес, там и спал. Устроил в углу печку, приспособил каску как сковородку. В последующие долгие месяцы и годы, без вола и сохи, возделывал землю мотыгой. Одному возить на тачке навоз в поле было не с руки, и он носил его в корзине через плечо. Обходился и без сеялки: продолбил мотыгой желобок в тыкве-горлянке, так и сеял. С шестьдесят седьмого по восемьдесят первый год отец со своим одним целым и шестью десятыми му так и оставался бельмом на глазу, шипом под кожей посреди обширных угодий коммуны. Его существование было и нелепым, и величественным; его и жалели, и испытывали к нему уважение. Одно время в семидесятые вновь ставший партсекретарём Хун Тайюэ несколько раз предпринимал попытки изжить последнего единоличника, но отец не сдавался. Всякий раз он бросал ему в ноги ту самую верёвку:
— Ну давай, повесь меня на абрикосе!
Цзиньлун рассчитывал, что с моим вступлением в коммуну и успешной постановкой революционного спектакля сможет превратить Симэньтунь в образцовую деревню во всём уезде, а после этого, как застрельщик, сделать головокружительную карьеру. Но всё пошло не так, как ему хотелось. Прежде всего Сяо Чан, которого они с сестрой ждали день и ночь, так и не приехал на тракторе руководить постановкой спектакля. Через какое-то время стало известно, что его освободили от должности за беспорядочные связи с мужчинами и женщинами. После его падения опереться брату стало не на кого.
После праздника Цинмин задул ветерок с востока, солнце стало пригревать; природа оживала, снег на солнечной стороне быстро сошёл, дороги раскисли — слякоть везде стояла непролазная. Зазеленели ивы у реки, большой абрикос во дворе тоже вроде собрался зацвести. Брат в эти дни нервничал, метался по двору как леопард в клетке, останавливаясь чаще всего на помосте под абрикосом. Стоял там, опершись на чёрные ветви, и курил сигарету за сигаретой. От чрезмерного курения у него развилось воспаление гортани, он безостановочно откашливался, чтобы прочистить горло, и без всякой деликатности сплёвывал мокроту под дерево, где образовалась целая кучка, похожая на куриный помёт. Взгляд растерянный и пустой, на лице читалось одиночество и разочарование, брат был нелюдим и жалок.

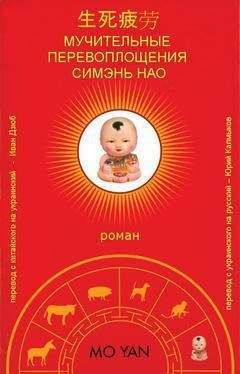



![Rick Page - Make Winning a Habit [с таблицами]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)