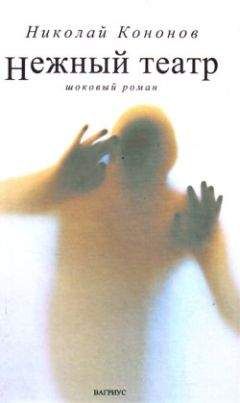Все кончилось, конечно, плохо.
Та самая – с третьего этажа была однажды при помощи добрых свидетелей выслежена и уличена – прямо на месте преступления. И с чужим мужем, уже раздевшимся совсем, и с брюхом от этого самого мужа, ну прямо на сносях. «И что та дура так поздно ему давала?» И Буся рассказывала, что от злобы ревнивицы тот муж «был просто остолбенелым, даже трусы не надевал». И разлучница, попав в эпицентр смерча была избита, измолочена, истерзана.
Да!
До полусмерти.
Так и вышло – жизнь досталась бабе-разлучнице, а смерть – ее утробе. Убиенного, почти доношенного младенчика хоронили сразу всеми четырьмя этажами. И бабы у закрытого кукольного гробика выли так, что все оперы должны стать бесцветными и ничтожными – и по страстям и по силе голошения.
На суде, когда «нераскаянной» убивце дали всего-ничего – восемь с половиной лет не самого строгого режима без конфискации, услыхав эту роковую цифру, совпадающую с возрастом плода, бабы аж взвыли – то ли от жалости к убиенному в утробе, то ли от ревности к жизни, которая им-то простодырам такими страстями никогда не обернется.
Бабушка тогда и произнесла одну из самых лучших своих максим.
Я все пытаюсь ее вспомнить, но точность и скрупулезность бабушкиной речи откатывают от меня как быстрая волна прибоя. Смысл ее заключался в том, что ревность и жалость при определенных обстоятельствах могут быть примерно одним и тем же. Но моя память утратила языковой ключ к точной природе тех удивительных обстоятельств. Когда я где-либо встречаю слово «ревность», я вспоминаю ту самую бабу, Бусину соседку, ее лицо, ставшее ликом восковой персоны с чересчур блестящей кожей, плохо видящими глазами, сосредоточенными на зрелище тотальной измены.
___________________________
Порой мне слышится голос Любы. Немного странный, чуть отдаленный от ее тела, перемешенный со слабым эхо, будто она всегда расточала слова в небольшом гулком помещении. Ведь в ее голосе не было того, что мне так хотелось слышать – легких грудных нот, неявной способности к пению, которому она никогда при мне не придавалась.
Но вот ее нет, а я иногда чую как в углу моего жилья напрягается звуковая дуга – я почти осязаю ее. «Ты не веришь», – говорит тишина, и пыльный жгут шипящих опадает как ветошь. Кажется, я могу вытереть о эти слова ноги.
«Буся, а ты, правда, ребеночка от меня не хотела никогда?» – мне слышится мой вопрошающий голос, беззвучно заливающий меня.
Я лежу в постели рядом с женой.
И я знаю, что Любаша ответила бы мне: «Вот еще, какого больного рожу, – потом, не поверишь, всю жизнь мучиться». Я легко имитирую ее речь. И я провижу историю, которую она могла бы мне рассказать. А, может быть, и рассказала, но я не помню, рассказала ли… – о добром дауне, которым мучилась одна женщина из ее цеха, брошенная или вообще родившая его как говориться «по случаю». И он дожил до английского совершеннолетия и отличался отменным аппетитом, никаким здоровьем, проливной уремией и удивительной добротой. Его непомерная ласковость всех соседей вгоняла в краску стыда и самоосуждения. Его избегали.
И вот эта история воспитания и смерти идиота. Полная брезгливого сострадания.
Спал он в коконе клеенок, как грудничок. Но все равно благоухал люто. Сосал палец. Сморкался. И стеснялся, когда ему за неопрятность выговаривали. Он сразу начинал торопиться, шаркал к умывальнику на далекую общую кухню и стирал свою засопливленную тряпицу к неудовольствию стряпух. И не было простуд, которыми он бы не переболел, не было органов, которые в нем в зависимости от сезонов не воспалялись. Зимой, например, – желудок, летом – легкие, осенью – печень, весной – все суставы, что и немудрено, ведь он съедал в день по пригоршни таблеток, от одного они помогали, но другому – вредили. Слабоумие старила его детское лицо. Сетка морщин, тусклое старчество в молочных очах, робкая неровная, кустиками, щетина, которую он нервно скреб.
Мать была вынуждена перейти с денежной посменной работы в тупые учреждения призрения, по которым они вместе кочевали. Но ночи, во что бы то ни стало, они всегда проводили дома, как нормальная семья, и все выходные и праздничные дни, конечно.
Я встречал его в Любином гигантском коридоре.
Одним словом, пошла та женщина с этим недоделанным, как говорили соседи, насквозь больным сыном в очередной раз к врачу.
Посмотрел доктор на него, посмотрел так внимательно и говорит грустной женщине: «А давайте-ка я ему один укольчик сделаю, вы сразу домой его ведите, пусть он заснет поскорее, только уговор – перед сном не кормить».
Так и сделали.
Ну и заснул он, заснул, заснул, заснул, заснул наконеееец… Мам да мам, мам, мны… и сон его скрутил. Помочился он на клееночку, конечно, вздохнул, ойкнул и отошел…
Поплакала-поплакала та женщина, а потом после всего купила бутылку хорошего, самого дорогого в хорошем центральном гастрономе коньяку и отнесла тому доктору. А доктор с самых дверей кабинета ей: «Только не надо меня благодарить, мамаша». А она: «Я и не мамаша уже». А он ей кивает: «А я знаю».
Я сам себе рассказываю страшную, как быль, бессонную сказку.
Говорю полночи сам с собою Любиным шепотом, понимая, что история эта не похожа на детскую страшилку, окутывая ее все более страшными и неприглядными подробностями. Сквозь эту бредовую вату пробиваются шипы. Я не могу от нее отделаться.[71]
Но где же, где, при каких горьких обстоятельствах я ее услышал? Сотканную из абсолютной нелепости и всеобщей неукоснительной правды.
Когда я вернулся из военных лагерей (уже закончив университет) коротко стриженным охламоном и показывал ей кучу смешных фотографий, то подметил, как остро она взглядывала на те, где я кривляюсь или позирую в дурацкой форме партизана. С настоящим оружием – автоматом Калашникова и штыком на поясе.
– Ты б и в летчики смог пойти, – тихо выдохнула она грустную, как слабый мыльный пузырь, фразу. Ее радужное желание было обречено.
И в том далеком голосе я услышал столько печали, столько ломкой выразительности, что мне почудилось, будто я верчу в руке траурный повядший цветок.
Эта фраза засядет во мне, как самое безыскусное сожаление, как самое искреннее «прости», на которое я буду только способен самой чистой частью своей души.
Я говорю эти слова про себя. Я говорю их про себя самого. Себе. И вот подмечаю, как мой голос, говорящий с сожалением о исчезающих в небесах летчиках, к середине этой мизерной фразы повышается к фальцету, делается Бусиным, и вот я сам скашиваю глаза в сторону их исчезновения, у меня по-женски повисают в беспомощности руки, я чувствую как круглеют мои бедра. Как при этом я весь делаюсь ею. Моей незабвенной, не переселенной никуда – совсем никуда. Только в меня может быть, все глубже и плотнее.
Но в тот миг, как это и случается в реальной жизни, я испытывал едкую молодую ненависть – и к ней, назойливо дышащей мне в щеку, и к небесам, где маются эти самые козлы-летчики, так возбуждающие ее своим безрассудным отсутствием в ее бытии…
Мучит ли меня совесть? Нет, нет и нет!
Но что-то гложет и холодит так, что я от этого твердею.
И если я встречаю военного, то неизменно примеряю его, пропахшую строгостями неукоснительного закона шкуру и вижу, нехорошо раздваиваясь, себя со стороны ее оценивающими глазами. Начинаю говорить с собою в этой личине ее тихим голосом.
Толяна и свою родную Тростновку она никогда не вспоминала. И я с ней больше в другие плавания не отправлялся. Просто раз или два в неделю я с нею жил. Я не испытывал особого восторга от неизменности этого обычая и чуял наползающую на меня скуку, которая надо заметить, тоже становилась частью ритуала.
Да и моя бедная невоплощенная мать, видимо превращающаяся в абсолютно неуловимую суспензию, интересовала меня все меньше и меньше.
Тело мое делалось твердым, будто я заражался от Буси грузом ее труда на заводе, да и свою душу я стал примечать, как летчик клубы белого газа за своим самолетом.
Я, одним словом, сам себя опережал. Или отставал от себя, – что в сущности, одно и то же.
___________________________
– А, старуха звонила, совсем позабыла – Любовь какую-то завалило. В третью городскую отвезли. Старуха у нее уже отметилась. Вот ведь силушка у старой. И не лень ей, а? Ну ты подумай?
Я тогда еще жил со своей второй женой. Она-то и пересказала мне вечером бабушкин телефонный звонок.
Она говорила окончание фразы уже не мне, а пустеющему желатиновому существу. Сквозь мою смутную шкуру можно было разглядеть остекленевшее сердце, незаколебавшийся сероватый воздух в легких, посиневший студень неотзывчивой крови. Я себя мгновенно таковым увидел, я не смог пошевелиться. Если бы жена была понаблюдательнее.
Я позвонил бабушке.
Молчал в трубку.
Что толку пересказывать бабушкину историю – она состояла из одних причитающих союзов, не связывавших уже ничего. Она плакала в трубку. Потом прибавила совсем немного: и в палату не пускают, и она санитарам дала, чтоб только глянуть, и за свежий халат дала, и яблок даже нельзя, и смотреть страшно, и помирает, и живого места нет, и только через стекло и показали, а лучше б и не показывали, вся в трубках.