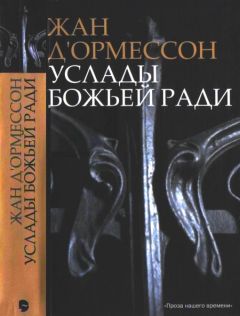— Называйте меня Состеном, — отвечал дед.
— Господин герцог, — продолжал Дебуа, — доверие, которое оказывает мне ваша семья, для меня — самое большое счастье, о каком я только мог мечтать. Но я умру тем, кем создал меня Господь.
— Ну что ж, дорогой Робер, — отвечал мой дедушка, — будем считать, что между нами ничего не изменилось. Но знайте, что я люблю вас больше, чем когда-либо любил из посторонних, люблю как родного.
И, обнявшись, два старика прослезились. С возрастом, все больше давившим на могучие его плечи, мой дедушка стал чаще плакать при виде проявлений добрых чувств, при звуках национального гимна, при виде когда-то ненавистного ему флага, при воспоминании о прошлом, о семье, а вот теперь еще и при проявлении демократии внутри семьи.
Когда мой зять Мишель приезжал на несколько дней в Плесси-ле-Водрёй, г-н Дебуа-отец садился вместе с нами за каменный стол. Он сидел между предками, о которых мы думали все меньше и меньше. Но весь его вид говорил, что он еще думает о них, хотя они остались бы для него посторонними, если бы не его сноха. И лучшей наградой за эту верность был для него дружеский взгляд моего деда.
Смерть дяди Поля была, конечно, ужасным ударом для дедушки. Я не уверен, что между ними была очень большая близость. Скорее могу предположить, что, несмотря на все различия, любимым сыном деда был, пожалуй, все-таки мой отец. Может быть, просто потому, что он давно умер и принадлежал прошлому. Но дядя Поль был старшим. Его уход из жизни раньше дедушки был огромным несчастьем. Еще, слава Богу, что он оставил четверых сыновей. Естественно, Пьер сменил своего отца. Все надежды семьи легли на его плечи.
В ту пору Пьер разрывался между Урсулой и Миреттой. Через несколько лет драма, тайно назревавшая между ними, вылилась наружу. Конечно, я описал ее достаточно неумело. Просто не знаю, какую форму рассказа надо было бы выбрать, чтобы передать одновременное развитие этих семейных событий, в которых я с трудом пытался разобраться. Разумеется, все эти такие различные события, которые я здесь описывал в разных главах, часто происходили одновременно. Пока мы с Клодом плыли к острову Скиросу, Миретта приехала в Париж, тетушка Габриэль сменила Пуаре на Шанель, Жак встретился с Элен во время ужина на улице Бельшасс или на Университетской улице, а Мишель покидал Финансовую инспекцию, чтобы занять важный пост в бизнесе Реми-Мишо. Только дедушка мало двигался: в семьдесят лет убеждения и давняя привычка к бездействию сделали его почти неподвижным.
Можно было бы выделить наугад один день из жизни семьи и показать его читателю, например тот вечер, когда погибла Миретта, или знаменитый четверг 24 октября 1929 года, когда в обстановке процветания пятнадцать миллионов акций были выброшены на продажу и Нью-Йоркская биржа обрушилась в один день, убив дядю Поля. Но тогда все грани этого вдруг остановившегося мира отбросили бы нас в прошлое и одновременно в будущее и каждый отдельно взятый факт раздулся бы под давлением событий, способствовавших его появлению и других событий, явившихся его следствием. Хотим мы этого или нет, но в рассказе последовательность отрезков времени берет верх над одновременным вязанием сложного узора. Вот почему мы увидели, как Миретта, дядя Поль, Жан-Кристоф, Мишель Дебуа и Клод жили и умерли по отдельности. Но они знали друг друга, и их индивидуальные жизни продолжались одновременно и переплетались одна с другой.
К этому примешивались шедшие отовсюду слухи. Наши китайские стены трещали по швам. Долгое время они защищали нас от нашествия варваров, от эпидемий, от торговцев, от тлетворных идей, от всех гуляющих по равнине ветров. Но газеты, радио, постоянное движение людей и мнений способствовали тому, что внешний мир ворвался-таки и в Плесси-ле-Водрёй. Совсем еще недавно мы жили почти одни, между тетушкой Ивонной и дядей Анатолем. А затем в эту семейную уединенность стали проникать те, кого дедушка называл, в зависимости от настроения, или отвратительными жуликами, или странными типами. Среди нас бродила тень Карла Маркса, вечером мы заглядывали под кровать, чтобы проверить, не прячется ли там Ленин с зажатым в зубах ножом, за стол с нами садился Фрейд, привезенный богатыми американками, вышедшими замуж за кузенов и трижды в неделю раскидывавшимися на диване в Нью-Йорке, чтобы рассказать ужасы и воспоминания детства, больше напоминающие шалости дядюшки Донасьена, чем воспоминания нашей тетушки Сегюр, урожденной Софьи Ростопчиной, про которую мы еще не знали, что и ее тоже в конце концов изощренные толкователи назовут замаскированной извращенкой. Эти заморские дамы были прокляты славным венским доктором. Летом 1909 года, в тот момент, когда вдали показались огни Манхэттена, он, стоя на палубе парохода, привезшего его из Европы, тихо сказал, обернувшись к своему спутнику, быть может, доктору Юнгу или верному последователю Шандору Ференци: «Они и не догадываются, какую чуму мы им везем».
Каменный стол под липами замка не сдвинулся с места. Но садились вокруг него всё новые лица, к которым дедушка питал скорее отвращение, чем любопытство. Самым забавным был человечек с усами в непромокаемом плаще, о котором мы уже говорили и который за три года сумел заставить замолчать всех посмеивающихся над ним остряков. Челочка бывшего фельдфебеля — не везет же нам на капралов и фельдфебелей — недолго забавляла нас. Еще не кончили куплетисты насмехаться над ним, а десятки тысяч пар солдатских сапог уже печатали шаг под лесом знамен, уже маршировали, сотрясая мостовую Нюрнберга при свете факелов. Гитлер, Геринг, Геббельс, Гиммлер — эти имена стали такими же известными, как имена Ленина и Рузвельта, Сталина и Фрейда, Линдберга и Ставиского, Форда и Рено, Мориака и Жюля Ромена. Когда я пытаюсь с помощью воспоминаний, летних запахов и мирского шума воссоздать образ тридцатых годов в их движении от кризиса к началу войны, «the thirties», как говорят американцы, воссоздать «климат» той эпохи, — еще тогда стало модно употреблять такие словечки, как «блейзер», «роботы», «мазут» и «потрясно», которые дедушка, в отличие от тети Габриэль, запрещал детям употреблять, — когда я вспоминаю все это, то вижу, как над каменным столом, над озером, над лесом поднимаются беспокойство и страх, знаменитая болезнь современности, о которой каждый, будь-то Кейнс, Фрейд, Пикассо или Чарли Чаплин, говорил на своем языке. После «roaring twenties», бурных двадцатых годов, далекие отклики которых, перемежаясь с джазом и танго, долетали до Плесси-ле-Водрёя, чаще всего благодаря красотке Гэби, 30-е годы оставили в памяти — может, потому что мы знаем, чем они кончились? — топот сапог и бряцание оружием. 20-е годы были бабьим летом Прекрасной эпохи, своего рода повторением исчезнувшего начала века. Суматошный 1925 год, несмотря на паузу, созданную войной, и многочисленные жертвы, все же оставался 1900 годом, оставался золотым веком вопреки Вердену и дадаизму, Октябрьской революции и учредившему компартию Турскому съезду. А тридцатые годы — это уже нечто другое, это дело Ставиского, убийство советника Пренса, который вел его дело, убийство в Марселе короля Александра I Карагеоргиевича и Луи Барту, события 6 февраля на мосту Согласия в Париже, Народный фронт, московские процессы и война в Испании, Нюрнбергский съезд нацистов и Ночь длинных ножей, внутренние причины которой стали понятны лишь много позже. Кровь, пролитая на Дамской дороге, и окопная грязь Аргонны вскоре вновь вошли в моду. Они стали частью повседневной жизни в деревнях и в семьях, в политике, на улицах больших городов. Спейшер, Антонен Мань, оба Маэса и Лапеби неутомимо продолжали серию своих подвигов. Они катились под лучами летнего солнца, невзирая на фашизм и коммунизм, на скандалы и войну в Испании, на бунты и забастовки.
Есть одно слово, вошедшее в нашу жизнь особенно прочно, лет на пятьдесят, а то и больше, быть может, на век, на два, а то и на пару тысячелетий. Оно вошло в повседневную жизнь, в наши беседы. Это слово — коммунизм. Все вертелось вокруг него, как когда-то все вертелось вокруг Бога и короля. У него было уже долгое прошлое. Это слово восходит ко временам Бабёфа и Кампанеллы, к инкам и Платону. Но теперь оно не просто означало абстрактную идею, некую опасность, некий риск, прекрасную мечту философа, временные потрясения. Слово это все больше сливалось с тем неизбежным будущим, за которое ручаются его пропагандисты. Впечатление было такое, что каменный стол постепенно превращается в бастион прошлого, в осажденную крепость, в обрывок прошлого, оторванный от будущего. Именно в 30-е годы мы начали подозревать, что услада Божья навсегда от нас отвернулась и что все моральные ценности, с которыми мы связывали наше имя, противоречат ходу истории.
Нет надобности скрывать: некоторые из нас считали, что нас ждут битвы и что к ним необходимо готовиться. Филипп, когда женщины оставляли ему какой-то досуг, не без удовольствия посещал массовые ночные празднества то в Баварии, то в Пруссии, где так красиво ходили колоссальные и очень дисциплинированные толпы, где так хорошо ладили между собой молодость и порядок. Ему было тогда где-то тридцать или сорок лет, и у него, как и у его племянника Жан-Клода, сына Пьера, двенадцати — пятнадцатилетнего подростка зарождалось чувство преклонения перед насилием. Филипп подбирал экземпляры газеты «Аксьон франсез», выпадавшие из рук разочарованного дедушки-католика. Семью-восемью годами раньше осуждение «Аксьон франсез» бордоским архиепископом, а затем и папой римским явилось для моего дедушки таким нравственным испытанием, которое не могут себе и представить люди нынешних поколений. Наверное, сравнить это можно лишь с потрясением, вызванным в наши дни во всем мире решениями XX съезда Коммунистической партии Советского Союза. Бог против короля — мир рушился. Только вот короля больше не было, а Бог правил по-прежнему. И мой дед подчинился. И еще больше погрузился в горестное одиночество. Филипп ни в какую монархию уже не верил. Поэтому у него на смену увлечению женщинами пришла вера в мужскую дружбу, в спорт, в нравственное здоровье, ключом к которому была сила и ее применение. Все это привело его в движение «Аксьон франсез», к «Молодым патриотам», с их начиненными свинцом палками, и «Королевским молодчикам», у которых Филипп стал одним из заводил.