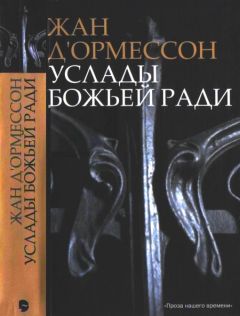Помню два-три случая, когда смешение идей и мнений, столь характерное для нашей эпохи — впрочем, может, мы просто плохо знаем другие эпохи, — достигало парадоксальной сложности. Например, мы с Клодом чуть ли не молились на одного молодого человека, родившегося десятью годами позже нас и о котором я где-то уже вспоминал в этой книге. Имя его было Бразильяк. Он сделал то, о чем мы с Клодом лишь могли мечтать: поступил в Эколь нормаль на улице Ульм, самое престижное педагогическое учебное заведение, от одного названия которого мы приходили в транс. Мы сохранили что-то от представления об элите, привитого нам дедушкой, представления, совершенно исчезнувшего тридцать — сорок лет спустя, к концу моей жизни, когда я пишу эти строки. Мы только перенесли на нечто иное представление об элите, как всегда определяя себе место в первых рядах прогресса, которому понадобилось всего несколько лет, чтобы состариться. Мы-то думали, что истинная элита общества — это люди науки и культуры, и подолгу мечтали, читая «Семью Тибо» Мартена Дю Гара и «Людей доброй воли» Жюля Ромена, о том, как бы сдать знаменитые конкурсные экзамены и поступить в эту самую Эколь нормаль. Мы набросились на «Вергилия» Бразильяка, потом на его замечательного «Корнеля», на книгу «Как проходит время» с чудесным описанием ночи в Толедо. Мы никогда не видели Бразильяка, тогда как Филипп встречался с ним в Нюрнберге в 1937 году. Когда во время немецкой оккупации вышли «Наши предвоенные годы», Филипп торжествовал. Описанный в книге мир классической культуры и утонченных наслаждений был несравнимо ближе к нашим мыслям и заботам, чем к идеям и занятиям Филиппа. Но кроме прочего Бразильяк в этой книге описывал все этапы своего обращения в фашистскую веру. «Вот видите… — говорил Филипп, к тому времени очень переменившийся, но по-прежнему верный воспоминаниям молодости, — вот видите…» Да, да, мы видели… Никогда ум, талант и даже гениальность не спасали людей от ошибок. Возникает даже ощущение, что они, как раз напротив, способствуют еще более глубокому погружению в бездны заблуждений. Самым привлекательным у Бразильяка были не идеи, а веселье, умение радоваться жизни, молодость, смелость, которая и помешала ему впоследствии, когда все мечты его рухнули, попытаться, как многие другие, исправить свои ошибки.
Был еще один писатель, вызвавший споры вокруг каменного стола. Это Андре Жид. Мы с Клодом им восхищались в не меньшей степени, чем Бразильяком. Филипп же его, естественно, ненавидел. По странному стечению обстоятельств тетя Габриэль тоже его терпеть не могла. Она с удовольствием повторяла фразу, позаимствованную ею, как мне кажется, у ее друга Пикабии: «Стоит вам почитать вслух Андре Жида в течение десяти минут, как вы почувствуете, что у вас во рту дурно пахнет». И вот уже тетушка Габриэль простила Филиппу его увлечение фашизмом, а Филипп забыл про ее проклятых поэтов, абстрактных художников, конкретную музыку и все, что он называл ее привязанностью к декадентству и сюрреалистической педерастии, — и правильно сделал, поскольку надо было ничего не понимать в сюрреализме, чтобы увидеть в нем, как это сделал позже Сартр, триумф гомосексуализма; и, создав, таким образом, временную коалицию, они стали вместе нападать на нас. Надо сказать, что со своими особыми мнениями и поправками к ним, со своими угрызениями совести из-за собственного аморализма, из-за своей пуританской чувствительности и своего зигзагообразного интеллекта Жид мог лучше, чем кто-либо еще, посеять раздор в традиционалистской семье, не поспевающей за событиями. И он очень бы обрадовался подобному учиненному им беспорядку.
У Филиппа довольно рано наметился поворот в его жизни, когда в 1934 году он вместе с несколькими друзьями впервые поехал по приглашению Витгенштейнов, с которыми сблизился, в Нюрнберг, где проходил съезд национал-социалистической партии. Вернулся он восхищенный и потрясенный. Нетрудно понять почему. С конца XVIII века мы принадлежали к сословию, непоправимо отрезанному от масс и от народа. Что нас всех втайне мучило, что порождало у нас горькие мысли, что создавало у нас постоянное ощущение одиночества, нарушаемого разве что фанфарами дедушкиных гимнастов по ночам да восторгами во время велосипедных гонок «Тур де Франс», так это потребность в общении с народом, который когда-то нас почитал и слушался, пока не стал отрубать нам головы. Сами того не понимая, мы мечтали о примирении порядка и толпы, традиции и активной деятельности, прошлого и будущего. Филиппу померещилось, что свидетелем именно такого примирения он стал во время бесподобного спектакля, организованного в Нюрнберге. Он буквально приходил в ярость, когда журналисты и куплетисты высмеивали человечка с прядкой волос. Филипп видел в Германии лишь величие, веселые лица, энтузиазм молодежи, веру, единство. Когда фюрер и двое высших представителей руководства нового режима, в наступившей абсолютной тишине пересекли огромное пустое пространство между компактными батальонами СС и СА в черной форме и коричневых рубашках, в толпе возникло нечто такое, что соотносилось в гораздо большей степени с любовью и религиозным мистицизмом, чем с политикой и церемониалом. Пока в либеральной и демократической Франции бесчисленные президенты приподнимали над головами судорожным жестом свои цилиндры, гитлеровская Германия укрощала и подавляла дикие инстинкты человека, ставя себе на службу колдовские чары ночи, тишины и кровного братства. Гитлер медленно шел перед знаменами старых немецких провинций, Саксонии и Рейна, Дуная и Шварцвальда, Саара, Гольштейна, Силезии, всех потерянных земель, распроданных на аукционах истории, развеянных ветрами договоров и еще только подлежавших возвращению в лоно немецкой отчизны. Прикасаясь одной рукой к каждому знамени, другой он держал стяг, обагренный кровью жертв неудачного путча 1923 года в Мюнхене. Так, между героями и солдатами, между землей и вождем устанавливалась мистическая связь, соединившая историю и клятву будущему, сакральное и сексуальное. Женщины падали в обморок от счастья и буквально от сладострастия, дети отдавались душой спасителю и клялись умереть за него. И каждый знал, что обещанное будет выполнено. Филипп смотрел на молодых эсэсовцев из Бремена и Фридрихсхафена, из Констанца и Кёльна, на японцев с накрахмаленными воротничками, на грузных итальянцев, на невозмутимых старых, слегка презрительных генералов с моноклями, затянутых в мундиры вермахта, смотревших на фюрера. Филипп не думал о том, что эти выстроившиеся десятки тысяч солдат, поющие с винтовкой или лопатой в руках, вскоре набросятся на его соотечественников. Он думал о том, что у него на глазах творится история и решается будущее мира, в океане знамен и штандартов со свастикой, колышущихся в огнях завораживающего спектакля света и тени.
А вот мой дедушка оставался неподвижным и не пошевельнулся бы, даже если бы мир обрушился вокруг него. Он оставался невозмутимым среди смуты и все больше углублявшихся пропастей. Невозмутимым и, возможно, уже безразличным по отношению к людям и их безумным надеждам. Он застал империю и ее падение, Седан, Коммуну, не состоявшееся возвращение короля, третье пришествие Республики, триумф промышленной буржуазии, потом и ее упадок, скандалы, дело Дрейфуса, попеременные победы то клерикалов, то антиклерикалов, ненависть к Китченеру и благосклонность к принцу Уэльскому, франко-английское соперничество и сердечное согласие, союз с Россией и антибольшевизм, кровавую мясорубку Первой мировой войны, успехи демократии и социализма, усиление американцев и того, что он все еще — или уже — называл «желтой опасностью». Он уже не верил почти ни во что такое, что не было вечным. Но в вечное он верил. Или в то, что ему представлялось вечным. В нем и в самом уже было что-то от неподвижности вечного. Он пытался — хотя бы он — не меняться среди всего того, что так быстро менялось у него на глазах, вокруг него. И это ему удавалось чудесным образом. Время было так же не властно над ним, как и над каменным столом. Оно только слегка пригибало его к земле, серебрило ему волосы, но ему не удавалось хоть сколько-нибудь изменить его убеждения, его безнадежные мечты, поколебать хоть что-нибудь в его внутреннем мире. Время мстило, переворачивая вокруг него все и всех. Смерть трех сыновей и брата на войне, которую вели республиканцы за победу демократии, самоубийство старшего сына, запутавшегося в денежных делах, романтические увлечения старшего из внуков — о чем он никогда не говорил, увлечение другого внука фашизмом, брак внучки с сыном управляющего имением… Слишком много всего для него одного. По-видимому, иначе думал какой-то ненасытный и неизвестный нам новый бог, ироничный и кровожадный, любящий унижать людей, неведомый ни греческой мифологии, ни римскому пантеону, но играющий огромную роль в наших судьбах: бог изменений, бог непреодолимой эволюции, бог грубых и жестоких трансформаций. Чего еще хотел этот бог от нас, уже немало поживших на земле? Чего-то хотел, и прежде всего, чтобы мы отказались от наших верований и традиций, отреклись от нашего прошлого, отринули от себя все то, что веками составляло смысл нашего существования. И с наглостью, свойственной только что родившейся вере и новой моде, подгоняемый попутным ветром, этот бог очень скоро получил то, чего добивался.