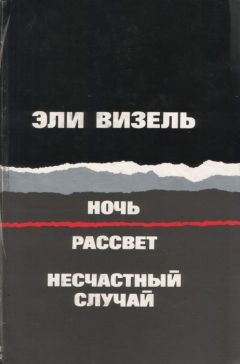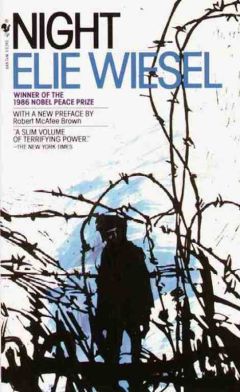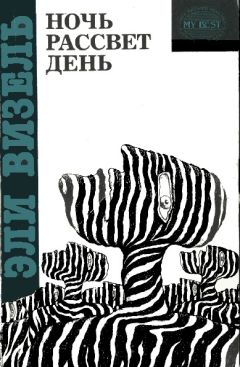Несколько недель она была настороже. Я тоже. Я считал себя ее нянькой. Иногда я тешился мыслью, что, может быть, она тоже обращается со мной, как с больным. Однажды мы снимем маски. Один из нас скажет: «Я только притворялся». — «И я тоже», — ответит другой. И горький привкус останется у нас на губах. Значит, жаль, что это была всего лишь игра.
Впрочем, Катлин не играла. Когда играют — не страдают. Та часть нашего «Я», которая наблюдает за нами, которая следит за нашей игрой, не должна мучиться. Катлин страдала. Несмотря на все доказательства, она не была убеждена. Она часто плакала в мое отсутствие. Когда мы были вместе, ее хорошее настроение оставалось наигранным.
Я больше не был свободен. Моя свобода унижала бы Катлин, которая так долго была скована. Я поставил себя по отношению к Катлин в такое положение, из которого уже не мог выбраться.
Если б от этого был хоть какой-то прок. Если бы это помогло Катлин. Но она по-прежнему оставалась несчастливой, и смех ее звучал неискренне.
Катлин становилась просто невыносимой. Она начала пить. Она махнула на себя рукой.
Я пытался с ней спорить: «Ты не имеешь права так себя вести».
— Почему? — спрашивала она с невинным видом, широко открыв глаза.
— Потому что я люблю тебя! Твоя жизнь дорога мне, Катлин!
— Давай, рассказывай! Ты меня не любишь, только говоришь так. Если бы любил, не говорил бы об этом.
— Я так говорю, потому что это правда.
— Ты говоришь так из жалости. Я тебе не нужна. Я не приношу тебе ни счастья, ни радости.
Эти споры не дали результатов, на которые я рассчитывал. Напротив, всякий раз потом Катлин еще больше падала духом.
Наконец, однажды вечером — за день до несчастного случая — она объяснила мне, почему не может поверить в искренность моей любви.
«Ты уверяешь, что любишь меня, но продолжаешь страдать. Ты говоришь, что любишь меня сегодня, а сам все еще живешь прошлым. Ты утверждаешь, что любишь меня, но отказываешься позабыть. По ночам тебе снятся кошмары. Иногда ты стонешь во сне. На самом деле, я ничего для тебя не значу, просто не существую. Для тебя существует только прошлое, не наше — твое. Я стараюсь сделать тебя счастливее — призрак встает в твоей памяти, и все идет прахом. Ты уже не там, но призрак сильнее меня. Думаешь, я не знаю? Ты считаешь, что твое молчание может скрыть тот ад, который ты носишь в себе? Или тебе кажется, что легко жить рядом с человеком, который страдает и не принимает ничьей помощи?»
Катлин не плакала. В тот вечер она не пила. Мы лежали в постели. Ее голова покоилась на моей вытянутой руке. Теплый ветер задувал в открытые окна. Мы только что улеглись. Таков был один из наших обычаев: никогда не начинать любовную игру сразу, сначала мы разговаривали.
Я чувствовал, как тяжелело мое сердце, казалось, оно не вмещало само себя. Катлин догадалась правильно. Страдание и угрызения совести нельзя скрывать слишком долго, они дают о себе знать. Она была права: я жил прошлым. Бабушка — со своей черной шалью на голове — не отпускала меня.
— Это я виноват, — ответил я.
Я объяснил ей: когда мужчина думает, что любит женщину, и говорит ей: «Я тебя люблю и буду любить вечно, пусть я умру, если разлюблю тебя», — он верит в свои слова. Но вот, однажды, он заглядывает в свое сердце и видит там пустоту. И он остается жив. С нами — теми, кто пережил годы смерти — дело обстоит по-другому. Когда мы говорим, что никогда не забудем — мы говорим правду. Мы не можем забыть. Призраки стоят перед нашими глазами. Даже когда мы смотрим на что-нибудь другое, призраки остаются. Наверное, если бы я смог забыть, я бы возненавидел себя. Наше пребывание там заложило в нас бомбы замедленного действия. Время от времени одна из них взрывается. И тогда нас захлестывают страдания, стыд и чувство вины. Нам стыдно, что мы чувствуем себя виноватыми в том, что живы, едим хлеба столько, сколько хотим, а зимой носим теплые носки. Одна из этих бомб, Катлин, наверняка принесет с собой безумие. Это неизбежно. Каждый, кто побывал там, заразился человеческим безумием. Раньше или позже оно всплывет на поверхность.
В тот вечер Катлин была трезва и рассудительна. Казалось, что ее прежнее «Я» вернулось к ней. Но я знал, что оно появляется лишь ненадолго и скоро снова покинет ее. Останется только подражание ему. А потом исчезнет и это «Я». Тогда разрыв станет неизбежным.
В ту ночь я понял, что рано или поздно мне придется бросить Катлин. Оставаться с ней стало бессмысленно.
Я сказал себе: страдание углубляет пропасть между нами и остальными людьми. Оно отгораживает нас стеной слез и презрения. Люди обходят стороной того, кто познал абсолютное страдание, если только не могут сделать из него бога. Если кто-то скажет им: я страдал не потому, что я был Богом, не потому, что я был святым, который уподоблялся Ему, а просто потому, что я человек, такой же, как вы, с вашей любовью, вашей трусостью, вашими грехами, вашими мятежами и вашими нелепыми амбициями — такой человек пугает людей, им становится стыдно. Они чураются его, словно он в чем-то виновен, будто он занял место Бога и освещает великую пустоту, которая открывается в конце любого пути.
На самом деле, так оно и должно быть. Человеку, который страдал больше, чем другие, и иначе — следует жить вне общества, одному, за пределами организованного существования. Такой человек отравляет воздух, делает его непригодным для дыхания. У веселья он отнимает непринужденность, радость становится неоправданной. Он убивает надежду и волю к жизни. Он является олицетворением времени, которое отвергает настоящее и будущее и признает лишь жесткий закон памяти. Он страдает, и его страдание губительным эхом отзывается вокруг.
«Раньше или позже, мне придется покинуть Катлин, — решил я. — Так для нее будет лучше. Если бы я мог забыть, я бы остался. Я не могу». Приходит день, когда человек не имеет права страдать.
— Я предлагаю сделку, — сказала Катлин. — Я соглашусь, чтобы ты помогал мне, при условии, что ты позволишь мне помогать тебе. Давай?
«Бедная Катлин! — подумал я. — Слишком поздно. Чтобы измениться, мы должны изменить прошлое. Но прошлое вне нашей власти, оно нерушимо и неизменно. Прошлое — это бабушкина шаль, черная, словно, облако над кладбищем. Забыть про облака? Черные облака, в которые обратились бабушка, ее сын, моя мать? Что за дурацкие времена настали! Все в мире перевернулось. Могилы взмыли ввысь. Вместо того, чтобы покоиться в сырой земле, они парят в небе. Мы лежим в постели, мое обнаженное тело против твоего, и мы размышляем о черных облаках, о кладбищах, стелющихся над землей, об издевательском хохоте смерти и судьбы, составляющих единую сущность. Ты говоришь о счастье, Катлин, как будто счастье было возможно. Счастье — это даже не сон, оно так же мертво и парит в вышине. Все скрылось в облаках. А какая пустота здесь внизу! Настоящая жизнь продолжается там, а здесь у нас нет ничего. Ничего, Катлин. Мы в безводной пустыне, в которой нет даже миражей. Это станция, где ребенок, оставленный на платформе, видит, как поезд уносит его родителей. И лишь черный дым там, где они стояли. Они стали дымом. Счастье? Ребенок будет счастлив, вели поезд вернется обратно. Но ты же знаешь, что такое поезд — он всегда едет вперед. Возвращается только дым. Да, мы остались на страшной станции! И людям вроде меня лучше быть там одним, Катлин, чтобы наши страдании не коснулись вас. Чтобы не дать вам отведать терпкий вкус, привкус дымного облака, который мы ощущаем во рту. Мы не должны допустить это, Катлин. Ты говоришь: „любовь“. Но ты не знаешь, что и любовь унес поезд, уходящий на небеса. Все умчалось туда. Любовь, счастье, правда, чистота, веселые улыбки детей и загадочные глаза женщин, медленно бредущие старики и юные сироты, чьи молитвы полны трепета. Это настоящий исход, исход из одного мира в другой. У древних народов было ограниченное воображение. Наши мертвые захватили с собой в загробный мир не только еду и одежду, но и будущее своих потомков. Ничего не осталось внизу. А ты говоришь о любви, Катлин? Говоришь о счастье? Другие болтают о справедливости, всеобщей или частичной, о свободе, братстве, прогрессе. Они не знают, что планета иссохла, и гигантский поезд все унес в небеса».
— Ну, так ты принимаешь? — спросила Катлин.
— Принимаю что? — не понял я.
— Сделку, которую я предлагаю.
— Ясное дело, — ответил я рассеянно, — конечно принимаю.
— И ты позволишь мне сделать тебя счастливым?
— Я позволю тебе сделать меня счастливым.
— И ты обещаешь забыть прошлое?
— Я обещаю забыть прошлое.
— И ты будешь думать только о нашей любви?
— Да.
Покончив со своей обычной серией вопросов, она перевела дыхание и спросила другим тоном: «Где ты был только что?»