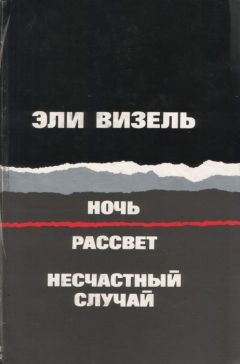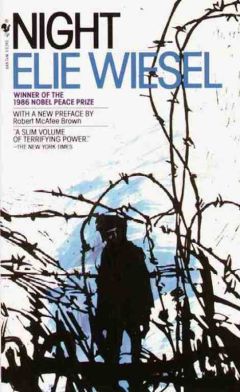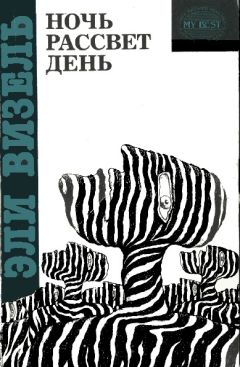— Да.
Покончив со своей обычной серией вопросов, она перевела дыхание и спросила другим тоном: «Где ты был только что?»
— На станции, — ответил я.
— Не понимаю…
— На станции, — сказал я, — я был на станции. На очень маленькой. На станции в провинциальном городке. Только что ушел поезд, и я остался один на платформе. В поезде уехали мои родители, они забыли меня.
Катлин промолчала.
— Вначале я обиделся. Как они могли оставить меня одного на платформе? Но чуть позже, я вдруг заметил странную вещь: поезд оторвался от рельсов и начал взбираться в дымно-серое небо. Оцепенев, я даже не мог крикнуть вслед моим родителям: «Куда вы? Вернитесь!» Наверное, если бы я закричал, они бы вернулись.
Я почувствовал усталость. В постели было жарко, я покрылся испариной. Под окном затормозила машина.
— Ты обещал, что больше не будешь об этом думать, — сказала Катлин в отчаянии.
— Извини, я больше не буду об этом думать. Все равно поезда теперь вышли из моды. Мир стал совершеннее.
— Правда?
— Правда.
Она прильнула ко мне своим телом.
— Всякий раз, когда твои мысли начнут уносить тебя на маленькую станцию, ты говори мне. Будем бороться с ними вместе.
— Хорошо.
— Я люблю тебя.
Несчастный случаи произошел на следующий день.
Я провел в гипсовой оболочке десять недель. Эти недели сделали меня богаче.
Я узнал, что человек воспринимает жизнь по-разному, в зависимости от того, лежит он или стоит. Тени на стенах, лица, выглядит по другому.
Три человека навещали меня каждый день. Пол Рассел заходил утром, Катлин вечером, Джула приходил днем. Только он догадался. Джула был моим другом.
Художник, выходец из Венгрии, Джула казался ожившей скалой. Он был гигантом во всех смыслах этого слова. Высокий здоровяк, с седыми непокорными волосами и насмешливыми горящими глазами, он низвергал все вокруг: алтари, идеи, горы. Все дрожало и трепетало от его прикосновения, от одного взгляда.
Несмотря на разницу в возрасте, у нас с ним было много общего. Каждую неделю мы вместе обедали в венгерском ресторане на Ист-Сайд. Мы учились друг у друга не соглашаться на компромиссы, стоять на своем, не идти на сделки с жизнью, не принимать легких побед. Наши беседы всегда напоминали шутливый диспут. Мы презирали сентиментальность. Мы избегали людей, которые воспринимали самих себя серьезно, а особенно сторонились тех, которые требовали того же от других. Мы не давали друг другу спуску. Поэтому, наша дружба была простой, естественной и зрелой.
Я все еще лежал едва живой, когда Джула ворвался в мою палату, отпихнул плечом сиделку — та как раз собиралась сделать мне укол — и, ни о чем не спрашивая, твердым и решительным голосом заявил, что намерен писать мой портрет.
Сиделка, со шприцем в руке, уставилась на него в изумлении.
— Что вы здесь делаете? Кто вас впустил? Немедленно выйдите отсюда!
Джула взглянул на нее с сожалением, как будто она была не в своем уме.
— Ты красивая, — сказал он ей, — но чокнутая!
Он с интересом рассматривал ее.
— Красивые женщины в наше время недостаточно чокнутые, — продолжал он меланхолично, — но с тобой все в порядке. Ты мне нравишься.
Несчастная сиделка — юная студенточка — была готова расплакаться. Ее всю трясло.
— Инъекция… Выйдите… Я сейчас…
— Потом! — приказал Джула, и, взяв ее за руку, подтолкнул к двери. Там она шепнула что-то ему на ухо.
— Эй, ты! — сказал Джула, закрыв за ней дверь, — она говорит, что ты тяжко болен. Что ты умираешь! Тебе не стыдно умирать?
— Да, — ответил я слабым голосом, — мне стыдно.
Джула прошелся по палате, осваиваясь с ее запахом, стенами, с видом из окна. Остановившись у кровати, он обратился ко мне:
— Не вздумай помереть, пока я не закончу твой портрет, слышишь? Потом — мне начхать, но не раньше! Понял?
— Джула, ты изверг, — сказал я растроганно.
— А ты не знал? — удивился он. — Художники — самые страшные изверги: их хлеб — жизнь и смерть других людей.
Я думал, он спросит — как произошел несчастный случай. Он не спрашивал. А мне хотелось, чтобы он знал.
— Рассказать тебе, как все случилось? — спросил я.
— Незачем, — ответил он презрительно. — Я не нуждаюсь в твоих объяснениях.
Он глядел на меня с нежностью.
— Я хочу, чтобы ты знал.
— Я узнаю.
— Это секрет, — сказал я, никто о нем не знает. Я бы хотел рассказать тебе.
— Не нужно, — заявил он высокомерно Я предпочитаю до всего доходить сам.
Я попробовал засмеяться: «Я могу умереть раньше, чем тебе это удастся».
Джулу охватил гнев, ого глаза угрожающе вспыхнули. «Я тебе сказал — не раньше, чем я закончу твой портрет. Потом помирай, сколько тебе влезет!»
Я мог гордиться. Им, собой, нашей дружбой, теми суровыми законами, на которых мы ее построили. Эти законы хранили нас от успехов и самоуверенности, свойственных слабым. Истинное взаимопонимание приходило тогда, когда на помощь призывались самые простые слова, когда, например, мы принимались формулировать проблему бессмертия человеческой души в ужасающе будничных выражениях.
Джула приходил каждый день. Сиделки знали, что лучше нам не мешать. Для них он был чудовищем. От его венгерских ругательств могла бы покраснеть негритянка.
Делая наброски, Джула рассказывал мне истории. Он был превосходным рассказчиком. Его жизнь изобиловала событиями и фантастическими приключениями. Он умирал от голода в Париже, пытал счастья в Голливуде и почти всюду обучался магии и алхимии. Он был знаком со всеми гениями литературы и искусства нашего времени, уважал их слабости и прощал им их успехи. У самого Джулы было пристрастие: ему нравилось вступать в схватку с судьбой, ее жестокости он придавал человеческие черты. Впрочем, об этом он говорил только шутя.
Однажды Джула пришел, как обычно, незадолго до полудня и, встав на фоне окна, принялся за работу. Он молчал. Войдя, он даже не поздоровался и выглядел очень сосредоточенным. Полчаса, час… Внезапно он остановился, замер неподвижно и посмотрел мне прямо в глаза, словно они были скрыты невидимой пеленой, которую ему только сейчас удалось прорвать. Несколько секунд мы пристально смотрели друг на друга. Его толстые брови изогнулись, он нахмурился. Он начинал понимать.
— Хочешь, я тебе расскажу? — удрученно спросил я.
— Нет, — холодно ответил он. — Нужны мне твои сказки!
И он вновь погрузился в работу, в которой находил ответы на все вопросы и вопросы на все ответы.
Неделю спустя Джула рассказал мне историю, не имеющую отношения к теме нашей беседы. Мы болтали о международном положении, об угрозе третьей мировой войны, о возрастающей роли Китая. Вдруг Джула заговорил о другом.
— Кстати, — сказал он, — я тебе не рассказывал, как я чуть не утонул?
— Нет, — ответил я шутливо, — где это случилось, в Китае?
— Оставь свои комментарии при себе, — сказал он, — лучше послушай.
«Старина Джула! — подумал я. — Как ты говоришь женщине, что любишь ее? Наверное, ты оскорбляешь ее, а если она не понимает, что это — объяснение в любви, ты просто перестаешь ее любить. Старина Джула!»
Однажды летом, спасаясь от жары, он уехал в отпуск на Французскую Ривьеру. Он часто ходил к морю. В то утро он заплыл слишком далеко. Внезапно резкая судорога свела его тело. Он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, и пошел ко дну.
«Я начал глотать соленую морскую воду, — рассказывал Джула. — Я не испытывал страха. Я знал, что умираю, но оставался спокоен. Удивительно приятная безмятежность охватила меня. Я подумал: „Наконец-то я узнаю, о чем думает утопающий“. Это была моя последняя мысль. Я потерял сознание».
Джулу спасли. Кто-то заметил, что он тонет, и вытащил его.
Не отводя глаз от контуров, которые его кисть оставляла на холсте, Джула продолжал, чуть улыбаясь:
— Придя в сознание, я огляделся вокруг. Я лежал на песке, окруженный группой любопытных. Лысый старик, врач, пробовал мой пульс. В первом ряду молодая женщина с ужасом смотрела на меня. Она с трудом попыталась улыбнуться, но выражение ужаса осталось на ее лице. Печальное зрелище: перепуганная женщина, которая улыбается. Я подумал: я жив, я обманул смерть. Смерть снова промахнулась. Вот доказательство: я гляжу на женщину, она глядит на меня и улыбается. Ужас на ее лице относится к смерти, которая все еще где-то рядом со мной. Улыбка предназначена мне, мне одному. Я сказал себе: я мог находиться здесь, на том же самом месте, и не увидеть эту женщину, которая сейчас красивее и изящнее, чем любая другая. Возможно, женщина посмотрела бы на меня — и не улыбнулась. «Я должен считать себя счастливым», — сказал я себе. Я жив. Победа над смертью должна породить счастье. Счастье быть свободным, свободным вновь играть со смертью. Свободным принимать свободу или отвергать ее. Такая отсрочка должна принести мне чувство блаженства. Но его не было. Я заглянул в себя поглубже: ни следа счастья. Врач осматривал меня, люди молча выражали мне сочувствие, словно подавали милостыню, а улыбка молодой женщины становилась все светлее — так улыбаются жизни. И все же, я не был счастлив. Напротив, мне стало ужасно грустно, я чувствовал разочарование. Позже, я готов был петь и плясать оттого, что не утонул. Но тогда, на песке, под золотым палящим солнцем, под взглядом этой незнакомой женщины, я ощущал разочарование. Я сожалел, что вернулся обратно.