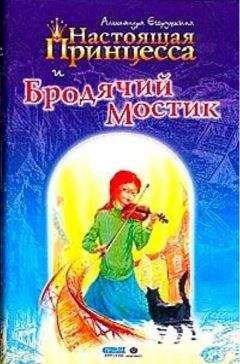Октава.
У буддистов восьмерка вообще святое число. Срединный путь, бесконечность. Усесться на ее плавную линию и скользить по ней, как по рельсам. Пока в глазах не начнет мелькать. Пока реальность не сольется в обычный пятнистый круг, который всегда бывает вокруг карусели. Во всяком случае, был в детстве. Сейчас точно не знаю – давно не проверял. В общем, пусть сольется. Потому что – кому она нужна, реальность? Да здравствует буддистский слалом. И никаких восклицательных знаков после слова «слалом». Их с карусели не разглядишь. Можно только услышать, как Гоша обучает поэзии Вельму Холькскъяйер – некрасивую норвежку, интересующуюся русским языком.
Ну да, а что ей еще остается?
«Песня называется «Хорошие девчата». Стихи написал поэт Матусовский. Поняла?»
«Мацуповски».
«Да нет! Матусовский. Великий советский поэт. Повтори».
«Мацуповски».
«Ну, что ж ты!.. В институте учишься, а ничего запомнить не можешь, кулема! Ладно. Повторяй за мной: «Хорошие девчата, заветные подруги…» Ну, давай. Чего молчишь? Я тебе говорю – повторяй!»
«Хорошие девчата, заветные подруги».
«О! Вот молодец. Получилось. Теперь дальше: «Приветливые лица, огоньки веселых глаз…» Чего опять замолчала?»
«Гоша, я не понимаю, что такое «кулема».
«Слушай, знаешь что? Я тебе лучше спою эту песню. Зови своих кубинцев. Пусть подыграют».
Октет.
Из всех циклических и ритмических процессов музыка – самый приятный процесс. Уступает в этом отношении, может быть, только любви. В ее ритмической парадигме. Зато наверстывает количеством наслаждающихся. Впрочем, римляне и этот недостаток преодолевали легко. Стоило Августу умереть, как пустились на эту тему во все тяжкие. Меньше чем ввосьмером, если верить Петронию, даже не начинали. Тут уже не до музыки. Но, поскольку прошло почти две тысячи лет и Великая Октябрьская революция, мы ведем себя гораздо приличней. Снимаем одежду только в одиночестве или когда вдвоем. И с выключенным светом. В остальных случаях одетые сидим на стульях и слушаем музыку.
Притопывая ногами, потому что удержаться, если честно, нет сил.
Гошину песню кубинцы не знали и почти сразу перестали мучить свои маленькие смешные гитары. Гоша успел добраться только до слов «Куда нас ни пошлете, мы везде найдем друзей». Кубинцы вежливо поаплодировали ему, переглянулись, хлопнули по гитарам и внезапно изменившимися голосами потянули пронзительное «Айя рива, Айя рива». Через минуту мы все щелкали пальцами и стучали ногами. Гоша свистел как Соловей-разбойник, а некрасивая Вельма танцевала посреди комнаты немного странный, очевидно, норвежский танец. Миф о скандинавской сдержанности разваливался на глазах.
Внезапно нырнув под кровать, она выдернула оттуда большой чемодан, открыла его и, практически вывалив содержимое на пол, стала быстро перебирать пластинки в цветастых конвертах. Найдя то, что искала, Вельма вскочила на ноги и бросилась к стоявшему на окне проигрывателю.
«Элвис Пресли», – выдохнула она.
Потом, когда все уже успокоились, Вельма, немного путая слова и блестя глазами, рассказала об американском военном госпитале у себя в Норвегии, куда после корейской войны привезли много раненых солдат. Для норвежских девушек это событие оказалось важнее, чем вся история скандинавских завоеваний. Американцы приехали не с пустыми руками. Вернее, они получали посылки из США. А в этих посылках в Европу летел Элвис Пресли.
«Мы делали вот так, – она снова выскочила на середину комнаты и затрясла головой. – И вот так».
Она вскинула руки и подпрыгнула, едва не опрокинув этажерку с учебниками русского языка.
«И у меня был такой розовый пояс. Очень широкий. И зеленый. Два пояса. И еще юбка. Она должна быть очень твердая. Почти хрустит. Мы разводили сахар в воде, и юбку туда опускали. Получается твердая. Только неудобно в кино. Прилипает, – Вельма засмеялась и хлопнула себя по заду. – Липкая, и царапается еще».
Я представил себе всех этих норвежских девушек в сладких юбках и американских солдат с пластинками Элвиса Пресли в руках, и мне стало ужасно смешно.
«Чего хохотать? – сказал Гоша-Жорик. – Хорошая музыка. Интересно, сколько эти пластиночки могут стоить, если их стилягам на барахолке толкнуть?»
Его тонкая музыкальная душа оказалась настолько впечатлительной, что буквально на следующий день он украл все пластинки из чемодана Вельмы, и больше я не видел его никогда. Расстроенная норвежка предложила мне сходить в лавру. Помимо русского языка, она изучала еще древнеславянское искусство. Стоя рядом с ней и рассматривая иконы, я впервые подумал о том, что многие вещи не вполне соответствуют сами себе.
Но зато я теперь мог говорить. Песни этого Пресли окончательно вернули меня в реальность, и оказалось, что она снова заслуживает каких-то произносимых слов. Извинившись перед Вельмой за Гошу-Жорика, я попросил у музыкальных кубинцев денег на поезд, а вечером уже ехал в Москву. В кармане у меня была лишь небольшая иконка и тоненькая свеча, которую надо было зажечь перед своей дверью и которую я не хотел покупать по причине явного отсутствия такой двери, но в конце концов за нее все равно заплатила норвежка. Ей понравилась сама идея.
Выйдя утром из поезда, я прямо с вокзала отправился к доктору Головачеву. Мне было уже неважно, искала меня милиция или нет. Мне надо было увидеть кого-нибудь, кто знал меня больше, чем последние два-три дня. Я смертельно устал быть незнакомцем.
Головачев встретил меня чрезвычайно приветливо. Он много говорил, постоянно пожимал мне руку, то и дело выбегал в соседнюю комнату, где его жена кормила только что появившуюся на свет дочь. В середине нашего разговора он вынес показать этого сморщенного ребенка и начал вертеть конверт с ним, как куклу, а когда я испугался, он сказал, что это все ничего и что он сам медик и поэтому знает, как надо.
Успокоившись и вернув ребенка своей жене, Головачев сообщил, что в Америке умерла Мэрилин Монро, и от этого его жена не может выйти ко мне из соседней комнаты.
«Ревела все утро. Теперь у нее опухло лицо, и она вас стесняется, молодой человек. Так что вы извините».
Когда я спросил про Любин аборт, он, наконец, немного смутился и сказал мне, что иначе поступить было нельзя.
«Я не мог давать ей пустышки вместо таблеток. Вы же понимаете. Хоть она и обижалась на это. Потому что ей хотелось быть как стиляги. Но я сказал ей, что стиляги не сумасшедшие, что они попали в больницу из-за политики. А ей нужны настоящие лекарства… Но они нанесли бы вашему возможному ребенку непоправимый вред. Поэтому пришлось пойти на операцию».
Я сказал ему, что все понимаю и что мне не нравится только фраза «возможный ребенок». Головачев извинился, еще раз пожал мне руку, я встал и ушел.
Перед самым уходом он спросил меня – вернусь ли я на работу в больницу. Очевидно, он никак не связывал мое внезапное исчезновение с побегом Гоши-Жорика. Я сказал, что нет, не вернусь. А потом вышел от него, так и не увидев его опухшей от слез жены.
Спустившись в метро, я остановился посреди станции, не в силах решить, в какой мне сесть поезд – справа или же слева. Разницы, в принципе, уже не существовало. Все поезда на свете шли в ненужном для меня направлении. Я чувствовал себя как Христофор Колумб, понявший, что точка возврата осталась далеко позади и питьевой воды на обратную дорогу в любом случае не хватит. Плыть можно было только вперед.
Странна и туманна участь того, кто решил попасть на восток через запад.
«А куда этот идиот делся? – сказал кто-то вдруг позади меня женским голосом. – Я думала, вы вместе».
Обернувшись, я обнаружил перед собой ту самую девушку, из-за которой разгорелся весь сыр-бор с поножовщиной на злосчастных танцах в академии Жуковского.
«Нет, мы не вместе, – сказал я. – Он украл пластинки Элвиса Пресли».
«Элвиса Пресли? А кто это?»
«Один американский певец».
Она чуть наморщила лоб:
«Как Ван Клиберн?»
«Ну да, только он, вообще-то, поет… То есть он не совсем пианист… Но это неважно».
Я никак не мог вспомнить ее имени и от этого чувствовал себя довольно неловко. Просто стоял и ждал, когда она уйдет. Но она почему-то не уходила. Людской поток обтекал нас, прижимая друг к другу все ближе и ближе, а она не переставала рассказывать мне всякую чепуху, пока не упомянула наконец того происшествия на танцах.
«А что случилось с курсантом? – затаив дыхание спросил я. – С тем, которого Гоша-Жорик порезал?»
«Да ничего, – она беззаботно тряхнула толстой косой. – Швы на руку наложили – и все. У них там постоянно кого-нибудь режут. Дураки. Я больше туда не пойду».
«На руку? – сказал я. – Только на руку?»
«Ну да, а куда же еще? Он ему всю ладонь распластал. Вот от сих пор до сих. Ой, на себе же нельзя показывать! Есть такая примета. В общем, сантиметров десять, наверное, шрам. Здорово, конечно, вы тогда меня до двери проводили».