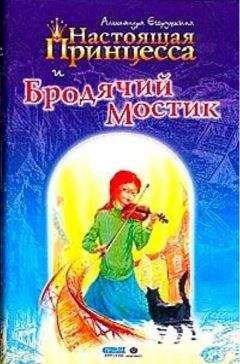«На руку? – сказал я. – Только на руку?»
«Ну да, а куда же еще? Он ему всю ладонь распластал. Вот от сих пор до сих. Ой, на себе же нельзя показывать! Есть такая примета. В общем, сантиметров десять, наверное, шрам. Здорово, конечно, вы тогда меня до двери проводили».
Я извинился перед ней и хотел нырнуть в переход, но она схватила меня за рукав и продолжала болтать как ни в чем не бывало. Очевидно, ей не хватало собеседника. Только я был не самым лучшим кандидатом на эту роль.
«А почему у вас такие грустные глаза? – огорошила она меня вдруг вопросом. – Вы ведь меня не слушаете. У вас что-нибудь случилось, да? Что-то серьезное? Кто-то болен?»
Я сказал ей, что нет, что все, в общем, здоровы и что я благодарен ей за участие, но мне нужно идти. Тогда она снова схватила меня за рукав.
Вечером, когда мы поднялись к ней на шестой этаж, она еще раз заверила меня, что ее подруга вернется с практики только через неделю, а соседям по коммуналке на все наплевать. Я взял ее за затылок и впервые поцеловал не Любу. Губы у этой девушки были твердые и прохладные. Я все еще не мог вспомнить, как ее зовут.
«Ух! – задохнувшись, сказала она, когда я отпустил ее и вынул из кармана свою тоненькую свечу. – А это зачем?»
«Надо зажечь ее перед тем, как войдешь в дом, – сказал я. – Есть такая примета».
* * *
Элвис Пресли оказался весьма въедливым товарищем. Всего лишь через полгода после того, как я наконец защитился, и мы с Верой снимали уже отдельную комнату, я бегал в перерывах между своими лекциями по Москве, заводя знакомства со всеми доступными мне стилягами, чтобы купить еще хотя бы одну пластинку. Вполне возможно, что среди них были и те, которые Гоша-Жорик украл у Вельмы и продал на киевской барахолке. Вера же к Элвису относилась спокойно и чаще слушала песни в исполнении Гелены Великановой. Хотя проигрыватель купил я.
Потом стал просачиваться «Битлз». Капля по капле, но тоже довольно настойчиво. Кто-то услышал его по «Свободе», кто-то по «Голосу Америки», и, наконец, дружинники в институте отобрали у моих студентов маленькую пластинку, наивно передав ее после этого в деканат. Две ночи я не давал Вере уснуть, раскачивая головой над проигрывателем и распевая вместе с Полом и Джоном «It’s been a hard day’s night». Правда, тогда в Москве никто еще не знал, что они были Пол и Джон, и вообще у нас какое-то время считалось, что все они между собой братья. Если бы Леннон тогда узнал об этом, он, скорее всего, был бы очень доволен и, может быть, даже написал бы по этому поводу песню. Но «занавес» был железным с обеих сторон. В восьмидесятом году, когда его застрелили, я отменил занятия. Лежа у себя в комнате и пытаясь глядеть в потолок, я вспоминал жену Головачева, которая не смогла выйти ко мне в день смерти Мэрилин Монро. Странные вещи иногда происходят с нами.
Но в семьдесят втором, когда меня попросили с кафедры, Джон был еще жив. И это во многом подсластило пилюлю. В июне они выперли из страны Иосифа Бродского, а к осени взялись за остальных. Несмотря на то что в пятой графе у меня было записано «русский», институт на время пришлось оставить. Коллеги скромно отводили глаза, а кое-кто советовал поменять фамилию.
«У тебя же по матери все нормально».
Формулировка мне очень нравилась. Как своим синтаксисом, так и неповторимой полифонией контекстов, которые этот синтаксис позволял. Но я все же предпочел написать заявление. Гонители были уже не те. Для хорошего серьезного аутодафе или Бухенвальда кишка у них была тонка.
Когда устраивался читать лекции в общество «Знание», дама в тяжелых очках попросила заполнить анкету. Дойдя до графы «пол», я, практически не задумываясь, печатными буквами написал «Маккартни». Печатными – чтобы она поняла. Тем не менее она удивилась.
«Но пол ведь бывает только мужской и женский», – сказала она, выглядывая из-за своих толстых очков.
«Не факт, – ответил я. – Любая дефиниция страдает определенной невозможностью адекватно описать то, что она призвана описывать. В науке – это настоящая драма».
«Как интересно», – сказала дама в очках.
«А вы посмотрите на пятый пункт. Что там стоит?»
«Русский», – сказала она.
«А теперь прочитайте фамилию».
«Койфман».
«Вот видите».
«Да, вижу. Ну и что?»
«У вас много знакомых русских мужчин с такой фамилией?»
«Ни одного. Вы первый».
«Замечательно. Значит, хоть где-то я оказался на первом месте. Американцы в таком случае говорят «You made my day». Большое спасибо».
Даже когда белые нейлоновые рубахи окончательно вышли из моды, я все равно продолжал их носить, вызывая этим насмешливые взгляды симпатичных студенток, уже обрядившихся в узкие разноцветные батники и широченные брюки клеш. Они создавали свои «системы» на улице Горького, проводили массу времени в «Трубе», как они называли переход у гостиницы «Метрополь», без конца болтали про американских хиппи и повязывали на голову цветные веревочки. Но мое сердце осталось в шестидесятых. Однажды я даже купил в комиссионке точно такой же желтый болоньевый плащ, как у доктора Головачева. Правда, так и не решился его надеть. Володька потом использовал его для ремонта велосипеда. Складывал в него какие-то испачканные в масле запчасти, протирал им насос.
Вера, получив диплом, пошла на работу в школу и стала завучем. Не сразу, разумеется. Через несколько лет. Но для меня эти годы проскочили как-то незаметно. Я и моя жизнь – мы, в общем-то, уже не очень интересовали друг друга. У каждого из нас были свои дела. Моя жизнь сама собой протекала в аудиториях, на ученых советах и деканских часах, а я тем временем сидел на диване и слушал голос Веры, которая рассказывала из ванной комнаты одни и те же истории про школу, про коллег и про учеников. Она всегда говорила очень громко, и даже шум льющейся воды не мог помешать ей остаться услышанной. Когда мы переехали в двухкомнатную квартиру, ей стало труднее, но она сделала над собой усилие, и ее опять было слышно в любой точке нашего совместного жилья. Как только она уходила в ванную и начинала разговаривать оттуда, я мог перестать кивать и включал телевизор. Правда, звук приходилось полностью убавлять, поскольку он разрушил бы нашу схему общения.
Володька свои первые десять лет жизни был абсолютно уверен в том, что я обожаю безмолвные движущиеся картинки и что все папы смотрят телевизор именно так. Однажды, когда я опоздал с ноябрьской демонстрации из-за того, что надо было собрать в деканате все транспаранты и портреты членов ЦК, он подбежал к ревущему праздничными лозунгами телевизору и на глазах у всех Вериных родственников выключил звук. Он просто обрадовался, что я наконец пришел, и хотел сделать мне приятно.
Вот так в тишине я пережил падение Сальвадора Альенде, отрубленные руки Виктора Хары, конец вьетнамской войны, гол Пола Хендерсона в наши ворота на последней минуте знаменитой хоккейной серии, приезд в Москву Ричарда Никсона, безмолвные и бесконечные монологи Брежнева, полет «Союз – Аполлон», полет мертвого Че, привязанного к стойкам шасси американского вертолета, и еще много разных других полетов, которые, то ли к счастью, то ли к несчастью, не имели в моей жизни никакого значения. Она – моя жизнь – неторопливо катилась сама по себе, и я даже в приступе сильного энтузиазма не мог бы сказать, что принимаю в ней какое-то особенное участие.
Время от времени я заглядывал в кафе «Сокол» на улице Расковой. Директор этого заведения, Леонид Михайлович, с пониманием относился к бывшим стилягам, и они собирались иногда здесь, чтобы повздыхать о былом, пошуршать нейлоном, поскрипеть шузами и позлословить о модном у «нынешних» лохматом хаере. Эти остатки разбитой наполеоновской гвардии можно было встретить еще в середине семидесятых в небольшой шашлычной напротив гостиницы «Советская». Среди стиляг эта шашлычная была известна под названием «Антисоветская». Разумеется, сугубо из топографических соображений. Директор ее, Павел Семенович, для краткости всегда назывался «Пал Семеныч», и его имя при редукции гласного звучало практически как «Пол», что, в свою очередь, тоже сообщало этому местечку известное очарование. Как-то раз среди стиляг там оказался один человек, за спиной которого все шептались и показывали на него пальцами. Когда я спросил: «А кто это?», мне ответили: «Бобров». Вот так я своими глазами увидел великого форварда. Он совершенно не был таким, каким я его знал в больнице доктора Головачева.
Однажды я уговорил Веру заглянуть со мной в это «злачное», как она потом выразилась, место. На самом деле никакими злаками там и не пахло, а люди просто ели мясо с бумажных тарелочек и запивали его вином. В летний день такой комбинации вполне хватает для того, чтобы немного приблизиться к пониманию счастья.
Приблизившись после двух стаканов портвейна к этому самому пониманию уже практически на расстояние вытянутой руки, я неизвестно зачем поднял голову от своего шашлыка и наткнулся на весьма интенсивный взгляд пары темных и очень тревожных глаз. Разумеется, вся эта темнота и тревога принадлежали моей растворившейся в бурных шестидесятых Рахили. В эту шашлычную ее привело, очевидно, то же самое, что и меня – недоверие к слишком поспешно наступившему «завтра». Как все нормальные советские люди, мы должны были испытывать прилив оптимизма при мысли о «завтрашнем дне» и всяких его свершениях, но, как несостоявшиеся стиляги, как неудачливые муж и жена, как не встретившиеся у колодца Рахиль и Иаков, мы просто стояли в этой шашлычной и молча смотрели друг на друга, как будто взглядом можно хоть что-нибудь изменить.