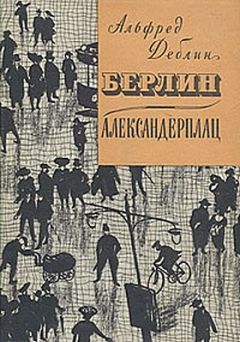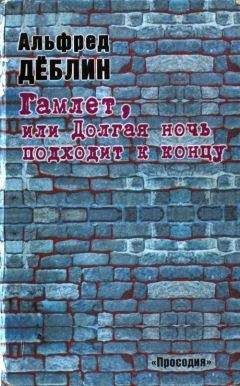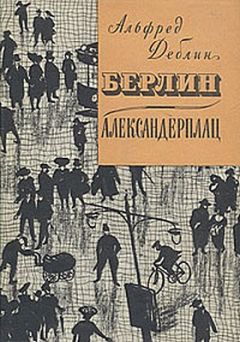Франц и Герберт узнали друг друга. Франц прошептал ему пару слов на ухо. Публика расступилась, и Франца перенесли в пивную, в комнатку за стойкой, положили его там на кровать, вызвали врача; Ева, красивая брюнетка, сбегала домой за деньгами. Франца вымыли, переодели. Не прошло и часа, как его уже везли на частной машине из Берлина в Магдебург…
После обеда Герберта пропустили на несколько минут к Францу в палату. Герберт сказал, что уезжает, но Францу беспокоиться нечего: через неделю он вернется и заберет его из клиники. А Ева пока останется в Магдебурге.
Лежит Франц, не шелохнется. Огромным усилием воли он взял себя в)руки. Не вспоминать, что было! Ни боже мой! И только когда в два часа сестра сказала, что приехала его жена и в палату вошла Ева с букетом тюльпанов, он заплакал безудержно, навзрыд. Еве пришлось утирать ему лицо полотенцем. Он облизывал пересохший рот, закрыл глаза, стиснул зубы. Но у него дрожали губы, он не мог сдержать слез. Наконец дежурная сестра, услышав его рыдания, постучала в палату и попросила Еву уйти. "Свидание, по-видимому, слишком волнует больного!"
Но на следующий день он успокоился и встретил Еву улыбкой. Две недели спустя его взяли из клиники. И вот он снова в Берлине. Как выехали на Эльзассерштрассе, у Франца ком подступил к горлу, но до слез дело не дошло. Вспомнилось то последнее воскресенье с Цилли, колокола звонят, звонят… А теперь вот я здесь буду, жить, здесь меня дело ждет, здесь теперь — моя судьба. В этом Франц был теперь уверен. Он спокойно лежал на носилках, когда его выносили из машины.
Здесь меня дело ждет, здесь моя судьба, отсюда я не уйду — не будь я Франц Биберкопф. Так и внесли его в дом, в квартиру его друга Герберта Вишова, именующего себя маклером. И в душе у Франца все та же непоколебимая уверенность, которая вдруг появилась у него после падения из автомобиля.
* * *
Сегодня на скотопригонный двор поступило: свиней — 11543, крупного рогатого скота — 2016, телят — 920, баранов— 14 450. Удар — хрясь! — и конец.
Свиней, быков, телят режут. Это в порядке вещей. Стоит ли об этом говорить! А что делают с нами, с людьми?
Ева сидит у постели Франца. Вишов то и дело подходит к нему, пристает:
— Скажи хоть, как это произошло, как это было?
А Франц — ни полслова. Отгородился от всех железной стеной и никого к себе не подпускает.
Потом Ева, Герберт и его друг Эмиль долго сидели за столом, говорили о Франце. С тех пор как его после катастрофы привезли к ним в дом, они так и не могут понять, что он за человек. Не просто же машина сшибла, что-то здесь не то! С чего это он забрел в десять часов вечера в северную часть города, не торговал же он там газетами, на ночь глядя, когда и на улице-то никого не встретишь. Герберт стоял на своем: Франц, верно, пошел на какое-нибудь дело, и при этом с ним такая штука и случилась, а теперь ему стыдно признаться, что газетенками своими он не мог прокормиться. К тому же тут, верно, замешаны и другие люди, которых он не хочет выдать. Ева соглашалась с Гербертом; да, Франц, конечно, ходил на дело, но как его угораздило попасть в такую историю? Подумать только — на всю жизнь остался калекой. Ну, да мы уж разузнаем.
Все стало проясняться, когда Франц назвал Еве свой последний адрес и попросил принести оттуда его корзину, но ничего не говорить хозяйке. Герберт и Эмиль не упустили такого случая, пошли к хозяйке. Та сперва отказывалась выдать Францеву корзину, но, получив пять марок, сменила гнев на милость, только пробурчала, что и так чуть ли не каждый день приходят тут всякие справляться о Франце. Кто? Да кто же — от Пумса, и Рейнхольд, и всякие там. Ах, вот оно что! От Пумса! Значит, это Пумс со своей шайкой… Ева вне себя, да и Герберт взбеленился: уж если Франц опять взялся за старое, то почему же именно с Пумсом? А как влип, так и про нас вспомнил. Теперь он калека. В чем только душа держится! Что с него возьмешь, а то он, Герберт, поговорил бы с ним иначе.
Герберт решил поговорить с Францем начистоту. Шутка ли, вся эта история обошлась им в добрую тысячу марок. Подошли они к Францу втроем: Эмиль тоже был здесь, и Ева упросила, чтобы ее пустили в комнату.
— Ну, Франц, — начал Герберт, — теперь дело на поправку пошло. Скоро ты встанешь, а дальше что? Ты об этом уже думал?
Франц повернул к нему небритое лицо.
— Погоди, дай мне сперва подняться на ноги.
— Да мы тебя не гоним, не думай! Мы тебе всегда рады. Почему ты только к нам так долго не приходил? Ведь уж год, как ты из Тегеля?
— Нет, года еще нет.
— Ну, полгода. Не хотел с нами знаться, что ли? Ряды домов, соскальзывающие крыши, двор такой глубокий, словно колодец… Несется клич, как грома гул, ювиваллераллера… С этого и началось.
Франц перевернулся на спину, уставился в потолок.
— Я ж газетами торговал. На что я вам был нужен?
Тут Эмиль не выдержал. Побагровел, заорал:
— Врешь! Не торговал ты газетами! Еще дураком прикидывается.
Ева еле успокоила Эмиля. Франц смекнул, — это неспроста, они что-то знают, но что?
— Говорю тебе, торговал газетами. Спроси Мекка. А Вишов в ответ:
— Воображаю, что скажет твой Мекк. Газетами он торговал, скажи пожалуйста. Пумсовы ребята вон тоже торгуют фруктами. А то и рыбой. Тебе ли не знать?
— То они, а то я. Я торговал газетами. Зарабатывал себе на хлеб. Ну хочешь, спроси Цилли, она целыми днями из дома не выходила, она тебе скажет, что я делал.
— Сколько же ты зарабатывал, марки две в день?
— Случалось и больше: мне хватало, Герберт.
Те трое не знали, что и думать. Ева подсела к Францу.
— Скажи-ка, Франц, ты ведь знал Пумса?
— Знал.
Пусть выспрашивает, Францу теперь все равно. Остался жив — и то ладно!
— Ну, и что же? — Ева ласково погладила его руку. — Расскажи, что у тебя было с Пумсом?
— Да выкладывай все, чего там! — взорвался Герберт. — Я-то ведь знаю, что у тебя было с Пумсом и куда вы ездили в ту ночь. А ты думал, я не знаю? Да, Да, ты с ними ходил на дело. Мне-то что? Меня это не касается. Но только как это так получилось — с ним ты якшаешься, с прохвостом этим старым, а сюда и носа не кажешь?
— Видал какой! — рявкнул Эмиль. — О нас он вон когда вспомнил…
Герберт сделал ему знак, тот осекся. А Франц зарыдал. Не так громко, как тогда в клинике, но тоже безудержно, навзрыд. Рыдает, захлебывается, мечется по подушке. За что его так? По голове треснули, с ног сбили, выбросили на ходу из машины, под колеса… Руки будто и не было. И остался он калекой… Герберт и Эмиль вышли из комнаты. Франц долго еще плакал. Ева то и дело утирала ему полотенцем лицо. Наконец он затих и некоторое время лежал неподвижно, с закрытыми глазами. Ева подумала, что он заснул. Но тут он снова открыл глаза и говорит:
— Сделай одолжение, позови Герберта и Эмиля. Те вошли, понуря головы. Спросил их Франц:
— Что вы знаете о Пумсе? Вы его знаете вообще? Те переглянулись, ничего понять не могут. Ева потрепала Франца по руке.
— Да ты ведь его и сам знаешь, Франц.
— Нет, вы скажите, что вы о нем знаете?
— То, что он отъявленный мошенник, — отвечает Эмиль, — и что он отсидел пять лет в Зонненбургской тюрьме, хотя заслужил все пятнадцать, а то и пожизненную. Знаем, какими он фруктами торгует.
— Он и не торгует фруктами, — проговорил Франц.
— Да, уж он больше по части говядины.
— Но послушай, Франц, — сказал Герберт, — ты же не с неба свалился, ты и сам мог догадаться, что он за человек.
— Я думал, что он в самом деле фруктами торгует.
— Ну, а зачем ты пошел с ним в то воскресенье?
— Мне сказали — едем за фруктами. Потом, мол, на рынок их свезем.
Франц лежал совершенно спокойно. Герберт наклонился над ним, заглянул ему в лицо.
— А ты и поверил.
Франц снова заплакал. На этот раз почти беззвучно, не раскрывая рта. Ну да, он спускался в тот день по лестнице, какой-то чудак ему повстречался — все выискивал в записной книжечке разные адреса, — потом он, Франц, пришел к Пумсу на квартиру и передал его жене записку для Цилли.
— Конечно, я поверил. Я только потом уж догадался, что меня поставили на стрему, и тогда…
Те трое растерянно переглянулись. Судя по всему, Франц говорил чистую правду. Просто невероятно! Ева вновь коснулась его руки.
— Ну, а потом?
Хватит в молчанку играть. Все скажу! Пусть все знают.
— Потом я хотел уйти, да не смог, вот меня и выбросили из машины, потому что за нами погнались тоже на машине…
Сказал — и больше ни слова. Чего же еще? Попал под ту машину, — как только жив остался! Они же меня "убрать" хотели… Франц перестал плакать, успокоился, стиснул зубы — лежит не шелохнется…
Вот и сказал. Теперь они все знают. И все трое сразу поняли, что это правда. Есть жнец, Смертью зовется он, властью от бога большой наделен… И еще один вопрос задал Герберт:
— Скажи мне вот что, Франц, и мы сейчас же уйдем: ты только потому не приходил к нам, что хотел по-честному газетами торговать?