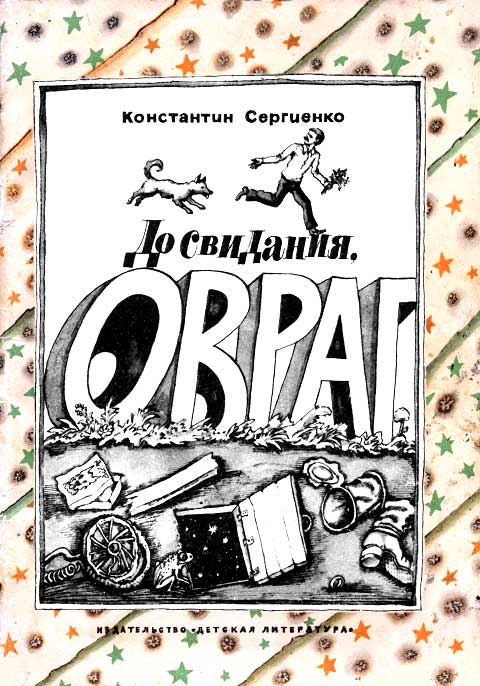Вернувшись из Барселоны на два часа раньше, мы ворвались в дом и остолбенели. Хавьер стоял на коленях с приспущенными штанами перед белым диваном, на котором развалилась совершенно нагая Матильда. Она была тонкой и расслабленной как упавшая в обморок обезьяна, а у Хавьера болтались жировые бугры на боках. Зад у него был бледный, а ложбинка в пояснице блестела потом. И все это в одно мгновение, так как через секунду Хавьер уже бегал по залу и, размахивая руками, истерически убеждал в чем-то Мерседес на своей тарабарщине. Мерседес ревела, кричала сквозь слезы, некрасиво искривляя рот, и то и дело хватала что-нибудь и угрожала швырнуть этим в отчима. Матильда, поджав ноги, свернулась в углу дивана, а я застыл там, где находился в тот момент, когда их увидел. Сверху на крики неуклюже прискакала по лестнице Кока и визгливо, даже радостно, залаяла и закрутилась, виляя коротеньким хвостом и цокая по кафельному полу когтями. Вместе с собакой вся эта яростная перепалка превратилась в идиотский балаган, и, наверное, именно это побудило воюющих к решительным действиям. Мерседес схватила трубку радиотелефона, Хавьер ударил ее по щеке и отобрал трубку. Тогда она швырнула в него стулом и побежала наверх. Топоток ее стих, Кока притихла, дважды еще тявкнула, и в зале наступила гнетущая тишина. Хавьер мрачно посмотрел на меня, я не выдержал его взгляда и выбежал на улицу.
Я прошатался по берегу моря до самого вечера, пока меня не нашла Мерседес. Она шла за мной, вязко шагая по песку, и уговаривала вернуться, а я молчал и прибавлял шагу.
— Остановись, пожалуйста! — просила она. — Я очень устала. Пожалуйста, остановись.
Мне стало горько, оттого что она меня так умоляет, и глаза у меня заслезились.
— Слышишь, остановись! Я люблю тебя, — тихо добавила она, и я спиной почувствовал, что она встала и прекратила меня преследовать.
Мне не хотелось расставаться с ней. Я не выдержал, остановился и обернулся. Мы были на расстоянии стреляющихся дуэлянтов. На ней были завернутые по колена джинсы и свободная белая рубашка навыпуск.
— Вы все сумасшедшие! — крикнул я ей сквозь шум волн и, кажется, даже перестарался.
Она молчала. Ветер с моря то наполнял воздухом, то придавливал ее рукава и трепал волосы, которые она поминутно убирала рукой с лица. Стоя, насупившись, я тайно любовался ею.
— Вы все сумасшедшие, — тише повторил я, но, кажется, слишком тихо.
Мерседес сделала несколько шагов к воде и села на песочный бугор, нанесенный волнами во время ночного прилива. Я решил, что она сейчас заплачет, и заранее пошел ее успокаивать.
— Я знала это. Я догадывалась, — говорила она, грустно потупившись. — Он меня тоже трогал, но я думала, потому что я ему неродная. Какая же он свинья! Господи, бедная мама, только бы она не узнала. Я бы предпочла бы, чтобы мы все умерли, только чтобы она никогда не узнала. — Я уезжаю к отцу, — решительно сказала она.
— Я не знал, что у тебя есть отец, — удивился я. — Где он живет?
— В Париже.
— Ты когда-нибудь была у него?
— Нет. Но он приезжал к нам, когда я была маленькой. Когда мама еще не вышла замуж. А когда появился Хавьер, он перестал приезжать.
Она заплакала как маленькая, хныча и подергивая плечами.
— Ты правда меня любишь? — спросил я ее и тут же подумал, что неподходящий момент.
— Я имею на тебя самые серьезные виды, — как-то странно резко ответила она, подняв голову, как воющий волчонок, жалобно всхлипнула, но неожиданно тихо расхохоталась сквозь слезы.
И я верил и не верил ее словам. Когда солнце скрылось, с моря начало тянуть холодком, мы нехотя побрели по неудобному песку обратно на виллу.
Дома у них было святое правило ужинать вместе. Но Мерседес не стала звать Хавьера, приготовила тарелку для Матильды и понесла на подносе в ее комнату. Через минуту они вместе спустились вниз, так как Матильда не хотела ужинать в одиночестве. Мне было страшно на нее смотреть, но когда я невольно на нее посматривал, вид у нее был совсем обычный. Как всегда, она прятала глаза, и только на этот раз на смуглых щеках у нее появился четкий багровый румянец.
Вдруг она жестом попросила у меня перец, и я слишком резко передал ей перечницу.
— Грациас, — чуть слышно сказала она, и мы продолжили ужин в молчании.
Мерседес не выдержала этой тишины, встала и включила пультом большой телевизор на стене, где весело забегали Том и Джерри. Матильда тут же нашла куда девать свои глаза и стала, бездумно жуя, смотреть на экран телевизора.
Внезапно появился Хавьер. И мы все с тревогой переглянулись. Он стремительно и молча вышел с кухонным ножом на середину зала, задрал футболку и воткнул себе в голое брюхо большое серебристое лезвие. Это был один из тех благородных ножей, которые вставляются в деревянную подставку. У него было самое большое и самое широкое лезвие из всех кухонных ножей, с тяжелым зеркальным лезвием, которое тихо и звонко хихикает, когда проверяешь остроту подушечкой пальца.
Я подумал, что это как минимум неумно — демонстрировать свое самоубийство перед мирно ужинающими людьми, большинство из которых несовершеннолетние.
Почему я допускаю в такой острый момент такие отступления? Да потому что это не самоубийство на почве раскаяния, а черт знает что! Вонзивший в себя наполовину нож дяденька не упал бездыханный, а завопил отвратительным хриплым голосом и забегал по всему дому, как обезглавленная курица по двору, только еще матерясь и давая ценные инструкции по собственному спасению.
— Кто-нибудь, мать вашу, Мерседес, дайте мне анальгин! — распоряжался он, придерживая воткнутый наполовину нож кончиками пальцев. — Новокаин! Аспирин! Кто-нибудь уже позвонил в реанимацию? Вы все последние сволочи! Облейте меня джином или водкой, иначе случится заражение…
Все мы бегали вокруг него, как дети вокруг Деда Мороза, пытались звонить, обматывать самоубийцу полотенцем, кричали, ловили друг друга за края одежды и отпихивали в сторону.
— Да ляг ты, в конце-то концов, и не двигайся! — оглушительно закричала на Хавьера Мерседес.
— Идиотка, если я лягу, то сразу умру!
— А разве ты не этого хотел?
— Ты бессердечная тварь!
— А я тебя ненавижу!
— Я умираю, а ты продолжаешь быть со мной стервой!
Вот уж точно кто не походил на умирающего, так это Хавьер. Он даже успел посмотреться в зеркало на стене, после чего резко побледнел и на секунду печально задумался. Всего через пару минут с улицы раздалась сирена, кутерьма в доме притихла, и Хавьер, не веря фантастической удаче, побежал встречать «Неотложку» на улицу. Я подскочил к окну и словно в идиотском сне, увидел огромную пожарную машину, с воем медленно подкатывающуюся к воротам виллы, выпрыгивающих из нее пожарных и резво бегущего к ним Хавьера.
Зачем приехали пожарные, я понятия не имел. Может быть, они проезжали мимо и им передали вызов для оказания первой помощи? Как бы там ни было, Хавьера пожарные не смутили, он упал им в ноги и принялся о чем-то молить. Вид у вялых огнеборцев с желтыми касками и болтающимися на груди противогазными масками был смущенный и неприязненный. Наконец один из них связался по рации со «Скорой помощью», а другой открыл ящик-аптечку и занялся спасением пострадавшего, уложил его на носилки и дал подышать кислородом.
Следом примчалась полиция. Женщина-полицейский сказала нам не высовываться из дому, и мы долго сидели у окна и ждали медлившую «Скорую помощь».
Всю ночь мы не спали. В доме дежурила та самая женщина из полиции. Мерседес ревела несколько часов напролет, а я сидел на холодном каменном полу у нее под дверью и тоже иногда всхлипывал.
Утром приехал Эцио с букетом мимоз, и строгая женщина в форме, убедившись, что он останется вместо нее, ушла. Потом приехали двое из агентства по обмену детьми и стали уговаривать меня воздержаться «пока что» от звонков родителям. «Ведь они могут сильно разволноваться, и случится большой скандал. Ты тут под присмотром, и все уже в порядке». Я сказал им, что не хочу оставлять Мерседес и Матильду, поэтому они могут меня ни в чем не убеждать, я и сам ничего не скажу родителям ни сейчас, ни после. И они с наигранными оханьями и аханьями уехали. Эцио дозвонился на бабушкин мобильный номер и уговорил ее перебраться из больницы, где она дежурила у палаты Хавьера, в дом, так как ему нужно было спешить по делам. И он тоже уехал. На какое-то время мы остались одни.