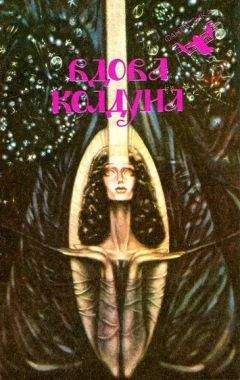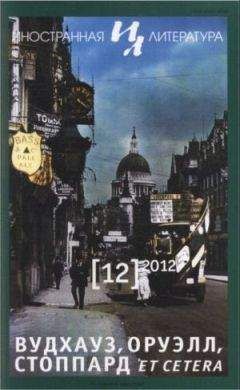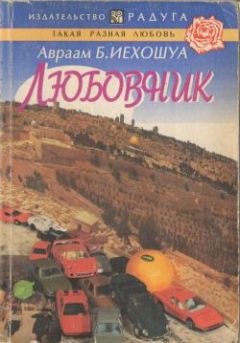— Можно определить нарушение ритма сердечной деятельности…
— В том-то и дело. Пульс я вообще не прощупал — то ли недостаточно крепко взял его за руку, то ли пульс был слабым, а в это время открывается дверь и вводят еще одного врача — такой благообразный, кругленький, смуглолицый, в белом фраке. Он раскланивается со всеми, видно, что он человек светский, но очень взволнован, подходит к Герцлю, представляется: доктор Мани, говорит по-английски, напоминает о Иерусалиме, там якобы они уже встречались, но Герцль осматривает его с головы до ног весьма насмешливо и не припоминает; я по-прежнему держу его руку, отчаянно пытаясь расстегнуть золотую запонку, в сердце страшная пустота, пульс, уж казалось бы чего проще, все так и не прощупывается, а в комнату входят все новые и новые люди — врачи, которых перехватили на выходе или уже на улице, ибо, увидев, что Герцлю стало плохо все, кто был рядом, разбежались в разные стороны в поисках врачей, и сейчас каждый приводил по одному, а то и по два целителя, словно это не сионистский, а медицинский конгресс, ха-ха. Но все они, разумеется, останавливаются в нескольких шагах, видя, что я уже стою у кресла, держу его за запястье, упрямо ищу этот затерявшийся пульс, хотя понимаю, что, даже если он обнаружится, то посчитать его в этой суматохе я все равно не смогу, тем более, что Герцль все время ерзает, вид врачей, стекающихся отовсюду, его явно потешает, на щеках его появляется румянец, и в комнате заметно оживление — все видят, что вождь жив-здоров и даже весел, а все случившееся вроде бы розыгрыш, чтобы собрать в одной комнате всех врачей. Я как осел стою в той же позе, ухватившись за его руку, и чем больше врачей входит в комнату, тем сильней я вхожу в состояние ступора, а они все ждут — с нетерпением, но не нарушая пока коллегиальной вежливости, — когда уже этот молодой врач-выскочка кончит свою дурацкую процедуру, потому что они давно уже поняли, что ничего я не прощупал и ничего не считаю, однако я не сдаюсь, и так до тех пор, пока в комнату не вплывает сверкающая лысина профессора патологии. Тут я на самом деле перепугался, выпустил руку вождя, а он, великодушный и галантный, встал и вновь протянул ее мне, теперь уже для рукопожатия в знак сердечной признательности, ха-ха…
— Ха-ха-ха…
— Не видишь ничего смешного? Помилуй, отец…
— Иногда так случается, что артерия спадается…
— Да, конечно, есть название; всему, что есть в нашем теле, в медицине дали название. Но зачем это тебе?
— Радиальная… что-то в этом роде…
— Смехотворная ситуация? Да, конечно.
— Да, именно я, который в общем-то привык к слабой пульсации… У детей это бывает…
— Не печалься, меня все равно там никто не запомнил…
— Бес попутал? Не стоит преувеличивать… Зачем метать громы и молнии? Разрешения на практику меня из-за этого не лишат, ха-ха…
— Нет, никто из врачей его больше не осматривал, но каждый счел своим долгом представиться — там были всемирно известные светила, многие из них говорили по-немецки, да еще как; вокруг нею быстро образовалась тесная группа, и я потихоньку ретировался. Стоя в своем уголке, я думал уже совсем не о Герцле, а о Линке — она, наверное, очень встревожена моим исчезновением, может, нашла гостиницу, но плутает там в темных коридорах. Рядом со мной, в углу оказался и появившийся вторым врач из Иерусалима, который тоже отступил под напором триумфальной немецкой речи; было видно, что он чувствует себя обойденным и весьма ущемленным тем, что Герцль его не узнал. Когда всем присутствующим стали намекать, что не мешало бы и честь знать и что, хотя тревога была ложной, вождю пора отдохнуть, я увидел, как гость из Иерусалима открывает какую-то дверь и исчезает за ней, и, как будто решив разделить удел обиженных, я тоже последовал за ним и оказался в узком и темном коридоре, совсем не в том, которым меня вели сюда, но возвращаться мне не хотелось; я шел на ощупь, стараясь не потерять из вида темный силуэт, маячивший впереди; он сразу почувствовал, что кто-то идет позади, остановился, вынул из кармана свечку, зажег и поднял над головой, любезно поджидая меня, и от этого коридора, отец, протянулась прямая и страшная линия к бейрутскому вокзалу, где он погиб, хотя в глубине души я, конечно, понимаю, что мы с Линкой были лишь поводом…
— Поводом…
— Поводом… Поводом для каких-то других счетов. Я — поводом для Линки, она — поводом для кого-то другого, возможно, какой-то другой женщины…
— И я задаю себе вопрос…
— Чем больше мыслей роится у меня в голове, тем печальней становится на душе.
— Нет…
— Нет…
— Значит, ты все-таки признаешь, что устал, отец?
— Я? Я наоборот только как бы набираю силы. Будь осторожен, отец, мы — я и эта история — слились воедино, словно огонь, играющий в печи, вплавил ее в мою душу. Этот огонь с детства завораживает меня, и сейчас, когда он поглотит эту историю, кто знает, может, и я не выдержу и шагну в печь, и останется от меня лишь горстка пепла…
— Не знаю. С момента, когда мы пересекли Босфор и оказались в Европе, мне все время зябко, дрожь пробирает до самых костей…
— Да, но для нас, прибывших прямиком из Палестины, эта осень уже как зима…
— Налей мне, пожалуйста, еще…
— Нет, не чая. Водки.
— Еще.
— Вот так, спасибо. Так все и началось, отец, со встречи в полутемном коридоре, возле лестницы для прислуги, где он ждал меня со свечкой; до сих пор удивляюсь, откуда она у него взялась, как будто ему изо дня в день приходится шастать в потемках, причем, свечка нашлась и для меня, он тут же достал из кармана еще один огарок и протянул мне. Я до сих пор спрашиваю себя: если бы Герцлю не стало плохо в тот день, произошла ли бы эта встреча? А даже если бы меня и позвали к Герцлю, но я не вышел бы из комнаты через заднюю дверь? Но я ведь вышел вслед за этим человеком, что-то меня влекло, может быть, потому, что с первой минуты он показался мне полной противоположностью всем собравшимся — этот кругленький гость из Иерусалима… прыткий… с пышной шевелюрой… приятной наружности… этот восточный врач… гинеколог…
— Гинеколог или, вернее, акушер. Помните ли вы, сударь, что и я, закончив общий курс, колебался, что выбрать — гинекологию или педиатрию? Ты тогда склонялся к женским болезням, а Линка была за то, чтобы я стал детским врачом.
— Конечно, все еще открыто… все возможно. Но он был определенно женским врачом, акушером, владельцем частной клиники — родильного дома в Иерусалиме, активно совмещающим медицину с общественной деятельностью…
— Около пятидесяти… Вроде бы не намного младше тебя, но, ты уж прости, совсем еще полон сил, даже немного ребячлив, но очень лукав, впрочем, и лукавство его совсем иного толка…
— Почему только еврейки? И мусульманки, и христианки-паломницы — кто обратится. Но погоди…
— Очень уместный вопрос. Сначала каждый пытался выдавить из себя что-нибудь по-немецки, но сразу стало понятно, что так не пойдет; он предложил английский, который, как я уже заметил, звучал в его устах напыщенно, по-павлиньему, каждое слово он выговаривал тщательно, да еще так, словно во рту у него яйцо всмятку, утверждая при этом, что английский — язык будущего; я только развел руками в знак своего бессилия; я заговорил на идише, и оказалось, что и он может изъясняться на этом языке, но вплетает много слов на иврите, коверкая их, произнося нараспев, выкрикивая первый слог, и я подумал: значит и иврит тут может пригодиться, по крайней мере в этой ситуации, в боковом коридоре, где два еврея в потемках ищут выход. И вот постепенно он стал набирать силу, этот иврит, который ты так старался вдолбить мне в голову, и я подумал: теперь бы ты был мной хоть немного доволен…
— Да, отец, настоящий иврит, хотя, конечно, выходил он из меня со скрипом, оставляя во рту привкус ржавчины, глаголы — только в одной форме, где женский, где мужской род я разбирал, наверное, с трудом, но тем не менее была особая прелесть в том, чтобы оперировать этим древним языком в узком коридоре швейцарской гостиницы, да еще пытаться шутить, потому что, как оказалось, мы шли совсем не в том направлении, стали зачем-то спускаться по лесенке, которая, сначала казалось, вообще не имела конца, а потом привела нас к винному погребу; иврит же мой от пролета к пролету все улучшался, и мой спутник тоже не терял присутствия духа и болтал на своем гортанном опаленном солнцем Востока иврите. Мы повернули назад и со свечами поднялись опять до двери, из которой вышли, но она, к нашему изумлению, оказалась заперта и за стеной ни звука, — может, уложили Герцля спать, а может, увели продолжать дебаты; теперь я уже не на шутку встревожился, ведь я все время волновался за Линку — что она делает там одна в этом фривольном платье, на улице, ночью, ищет, конечно, меня. Тут послышались тяжелые шаги — горничная, дородная швейцарка, шла к себе в комнату после смены, она вывела нас из этого лабиринта, открыла перед нами дверь, и мы оказались снаружи, с задней стороны гостиницы на узкой и такой тихой улочке, словно всех этих безумно галдящих евреев не было и в помине…