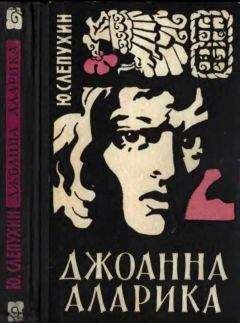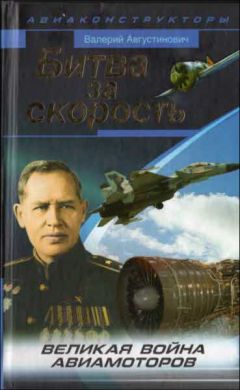Время от времени появлялась старуха с темным пергаментным лицом, приносила маисовые лепешки, поила горьким ароматным отваром и клала примочки на щеку. Джоанна послушно пила отвар и съедала лепешки, не ощущая вкуса. Потом старуха выходила и садилась на корточки перед порогом, дымя черной самодельной сигарой, а Джоанна лежала, вытянувшись на спине, и сухими глазами смотрела в потолок, где под кривыми балками висели связки красного перца.
С тех пор как это случилось, она ни разу не заплакала. Есть последние, крайние пределы горя, когда слезы не льются из глаз, когда они скапливаются где-то в груди и давят на сердце, когда кажется, что сердце вот-вот остановится, не выдержав этой страшной тяжести невыплаканного страдания.
Сердце Джоанны не остановилось. И только поняв, что судьба отказывает ей и в этой последней милости, она осознала ее по-новому, по-новому осмыслила оставленную ей жизнь — жизнь для ребенка, жизнь для Гватемалы…
На четвертый день к порогу хижины подошли трое. Джоанна со своего места смотрела на них без страха, с равнодушным любопытством. Они были в хаки, в широкополых шляпах, с автоматами. Двое заговорили со старухой, по обыкновению сидевшей на корточках с сигарой во рту, а третий заглянул в хижину. Не сразу освоившись с полумраком после яркого солнечного света, он всмотрелся в тот угол, где лежала Джоанна, и спросил, обернувшись к старухе:
— Кого ты там прячешь, ведьма?
Та проблеяла что-то в ответ своим козьим голосом — одно слово, которое Джоанна не расслышала, но которое, по-видимому, хорошо расслышали солдаты. С опаской поглядывая на дверь, они быстро попятились от порога и ушли. «Очевидно, назвала какую-то заразную болезнь…» — равнодушно подумала Джоанна, прикрывая глаза. Через несколько минут где-то послышались крики, женский плач, короткая автоматная очередь, чей-то истошный вопль. Потом тишина.
Через два дня, к вечеру, инсургенты опять появились в поселке. К старухе на этот раз не заглядывали, но Джоанна слышала шум моторов. Опять были крики, чей-то плач, сухой треск автоматов. Кого-то, по-видимому, увезли с собой, судя по возне и приглушенным ругательствам возле машин.
Джоанна решила, что пора уходить. Физически она уже поправилась, лишь иногда возвращались сильные приступы головной боли, а оставаться дольше было опасно и для нее самой и для старухи, которая в случае чего первая поплатилась бы за свое гостеприимство. Прощаясь, Джоанна поцеловала ее в пергаментную щеку и протянула единственную захваченную из дому драгоценность — золотые часики, крошечную «Омегу» на тонком браслете-обручике. Старуха повертела блестящую вещицу в руках, одобрительно покивала и вернула Джоанне. Джоанна смутилась, сунула часы в карман, еще раз поцеловала старуху и ушла.
У выхода из поселка ветер донес до нее тяжелый смрад тления. Поморщившись, Джоанна невольно оглянулась и увидела нескольких сидящих на пустыре женщин в пестро-полосатых индейских шалях. Что-то заставило ее подойти: четыре вздувшихся на солнце трупа лежали в канаве. Крупные зеленые мухи роем гудели над канавой и ползали по лицам расстрелянных. Машинально перекрестившись, Джоанна отступила на шаг.
— Почему вы их не похороните? — минуту спустя спросила она у одной из женщин.
— Нельзя… запрещено, — ответила та, не подымая головы.
— За что их расстреляли? — помолчав, опять спросила Джоанна.
— У них нашли членские книжки аграрного синдиката…
«Небо, почему я не мужчина? — шептала Джоанна побелевшими губами, уходя от канавы. — Почему я не родилась мужчиной…»
То, что она находится в западне, стало для нее ясным на шестые сутки скитаний из поселка в поселок. Она не могла добраться до столицы, минуя магистральные дороги, а по дорогам день и ночь мчались теперь машины, полные вооруженных людей. Как правило, сидящие в джипах были пьяны в дым, они горланили похабные песни и стреляли в воздух и по сторонам — куда и в кого попало. Попасться им на глаза было бы верной гибелью.
Может быть, стоило рискнуть — найти какого-нибудь офицера и, используя безукоризненное знание английского, притвориться заблудившейся иностранкой и попросить довезти до «Гватемала-Сити»— так обычно называли столицу американские туристы. Но Джоанна такого насмотрелась за эти дни, что просто не могла заставить себя отважиться на такой рискованный поступок, хотя сознавала, что он остается для нее едва ли не единственным шансом на спасение. Ее бросало в дрожь от одного вида мундира «освободительной» армии.
Почти в каждом поселке — за околицами, в придорожных канавах и просто у изгородей — гнили на июльском солнце трупы расстрелянных, которых не разрешали хоронить. Людей убивали за найденный профсоюзный билет, за газету с текстом декрета об аграрной реформе, за портрет Арбенса; иногда просто за любую книгу. Считалось, что только «красные» обучены грамоте. Приходили, расстреливали главу семьи, иногда насиловали мать на глазах у детей, потом поджигали хижину: это называлось «очисткой страны от агентов Коминформа».
За эти дни Джоанна состарилась душой на несколько лет. От ее прежнего наивного патриотизма, выражавшегося главным образом в том, чтобы всегда держать на своем столе букет белых орхидей, ничего не осталось. Теперь она начинала узнавать подлинную Гватемалу, узнавать свой народ, ранее известный ей по романам Астуриаса, — этих простых людей с лицами, вырезанными из красного дерева, людей, которые никогда не спрашивали ее, кто она такая и почему прячется от «освободителей»; людей, которые молча давали ей приют в своих глинобитных хижинах и молча делились с нею последней маисовой лепешкой и последней горстью фасоли. Мысль об этих людях, отныне снова обреченных на рабство, вместе с мыслью о ее будущем ребенке, ребенке Мигеля, заставляла Джоанну жить, прятаться от солдат, пробираться из поселка в поселок. Только эта мысль помогала ей преодолевать мертвящее сознание раздавившей всю ее жизнь катастрофы и страшную усталость, которую она несла теперь в своем сердце, — усталость от женских воплей на дымящихся развалинах, от треска выстрелов, от смрада разлагающихся трупов, ставшего в эти дни воздухом ее родины, ее Гватемалы. Ей все чаще вспоминались вычитанные где-то слова древнеегипетского похоронного гимна: «Ныне мне Смерть — как ложе усталому, ныне мне Смерть — как освобождение». Но она знала, что еще не имеет права на смерть, права на отдых.
Эту ночь Джоанна провела в полусгоревшем здании школы, на окраине одного из поселков недалеко от Халапы. Утром приехала машина с установленным на крыше громкоговорителем; «освободители» постреляли в воздух для устрашения «освобожденных», согнали их на площадь и заставили прослушать воззвание полковника Кастильо Армаса о возвращении Гватемалы в лоно демократии. Воззвание, как торжественно объявил диктор в конце, было подписано первого июля сего года, в штаб-квартире «армии освобождения» — в городе Чикимула, Гватемала. Громкоговоритель работал на полную мощность, и Джоанна из своего убежища отчетливо слышала каждое слово. «Раньше адрес штаб-квартиры был — Копан, Гондурас», — подумала она, усмехнувшись. Наконец-то полковник-«освободитель» отважился перебраться на землю Гватемалы!
Когда радиоустановка уехала, Джоанна выбралась из-за груды обгорелых стропил, за которыми просидела эти полчаса, и прислушалась. В поселке было тихо, на этот раз дело обошлось без расстрелов.
Перейдя в уцелевшую часть здания (школа сгорела только наполовину, очевидно, пожару помешал дождь), Джоанна походила по комнатам, переступая через кучи мусора, и присела за одну из парт, согнувшись и положив голову на руки. Уже второй день она чувствовала себя очень плохо: почти беспрерывные головные боли, тошнота, рези в желудке.
Дикие фрукты, о которых она не имела ни малейшего понятия, составляли ее главную пищу уже несколько дней. Ночевать в хижинах и принимать угощение хозяев она теперь избегала: во-первых, эти ночевки были слишком опасны, во-вторых, она не могла не видеть, что еды, как правило, не хватает даже для детей. Приходилось спать где попало и довольствоваться фруктами; их было много, но не все были съедобны и не все полезны. Последнее качество было труднее всего определить на вкус, как делала это Джоанна.
Сейчас она сидела, согнувшись за партой, — в такой позе боль, казалось, несколько утихала — и думала о своем безвыходном положении. Когда доберется она до столицы? Как сумеет миновать все контрольные посты на дорогах? И какое впечатление произведет она, появившись в таком виде на городских улицах? Бродяга, настоящая бродяга!
Выставив из-под парты ногу, Джоанна оглядела туфлю, потерявшую форму и цвет, с оторванной подошвой, подвязанной куском телеграфного провода. Когда-то это были нарядные мокасины из тонкой кожи, но скитания по лесу и каменистым дорогам превратили их в нечто неописуемое. Из всего ее костюма лучше всего держались пока брюки: сделанные из тонкой, но прочной ткани, простроченные тройным швом, с никелированными заклепками на углу карманов, они с честью выдержали все испытания. Ковбойка же порвалась в двух местах, на плече и у ворота, и полуоторванный нагрудный карман висел треугольным лоскутом. Первый же полицейский в городе из одного любопытства задержит ее в таком живописном наряде.