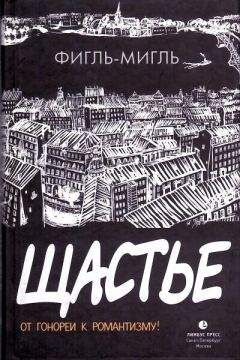— Не вы ли говорили, что для человека гармония невозможна?
— Разумеется. Зато возможна такая степень дисгармонии, при которой человек вообще перестаёт существовать. Бог и Искусство гармоничны; на их недоказанное милосердие мы и уповаем перед лицом хаоса.
— И что мне теперь, Сологуба читать?
Канцлер воззрился на меня почти ошарашенно.
— Это было бы очень кстати. Простите, а откуда вы о нём знаете?
Я рассказал о своем знакомстве с Алексом — и про сестру Алекса рассказал — и, подумав, поведал о предстоящей свадьбе. Я видел, что Николаю Павловичу мучительно выслушивать сплетни, и жадность, с которой он всё же слушал, напоминала отчаяние кинувшихся в пучину порока или гибельной страсти. Я был рад, что ему плохо; мне даже самому стало значительно лучше.
— Илья был мне другом, — сказал он наконец. — Я рад, что он обретёт счастье.
— Ну, до счастья ему как до луны на четвереньках.
— Для души любить важнее, чем быть любимым, — ответил Канцлер просто. — Если душа не страдает, то что же это за душа? А если счастье не выстрадано, то как мы поймем, что это счастье?
— Не вы ли говорили, что счастье не имеет значения?
Он посмотрел полусердито, полусмущённо.
— Так и есть. Но нашим душам — всё равно.
— По-моему, вы сами влюблены, — брякнул я.
— Мне сорок лет.
— Илье Николаевичу это не помешало.
— Илья Николаевич живет другой жизнью.
— Да, уж на него-то варвары не наседают.
Канцлер нежданно улыбнулся: мягко, грустно, как-то так, что захотелось (на что и был расчёт) извиниться.
— Вы мне тоже не верите? И ладно. Ждите дня, когда придётся поверить собственным глазам. Как это вы сказали… Армагеддон?
— Кстати о любви. Вы до своего Армагеддона не доживёте. Кропоткина любили очень многие и очень сильно.
Теперь улыбка была откровенно надменной, пренебрежительной.
— Что сможет мне сделать это отребье?
— Вот уж не знаю, — сказал я. — Сильные чувства делают людей изобретательными.
4
Радостных на улицах стало больше, листьев на деревьях — меньше, солнца — вообще нисколько. На Город обрушились наводнения. В провинции бушевал грипп, росла инфляция, менты и авиаторы обезумели, словно сдавали квартальный отчет своих чёрных дел. Я шёл из аптеки.
На меня навалились сзади и ударили — насколько могу судить, сразу и по ногам, и по голове. Падая, я ещё не унывал, но через пару минут выяснилось, что судьба приготовила мне адресные побои, а не случайное ограбление. Били втроем или вчетвером, и, приглядевшись к обуви, я начал соображать.
Я не чувствовал страха, только боль. Самым гадким было ощущение, когда рот наполнился кровью. Наконец бойцы взяли паузу.
— А, — сказал я, отплевываясь и озираясь, — знакомые всё лица. Приветик.
— Поговорим, — предложили мне без вопросительной интонации.
— Ты меня удивляешь, товарищ. Или убивать, или разговаривать. По крайней мере, мне говорили именно так.
— Когда ты убивал или когда ты разговаривал? — спросил, подходя, Поганкин.
— Уже не помню.
Я оглядел их: Дядя, которую трясло от гнева и горя; довольно улыбающийся Недаш; кладбищенский функционер, забыл, как его; угрюмая рожа Злобая. На лице Поганкина читалось умеренное, почти сочувственное любопытство.
— Не хочешь соображать, — сказал Недаш.
— Хочу, но не получается.
— Нам нужна информация.
— Стволы вам нужны, а не информация.
Поганенькая морда Недаша ничем не выдала его поганеньких чувств. Остальные стали переглядываться.
— Информация, — сообщил Недаш, — является оружием большим, чем просто оружие. Особенно противопоставленная циничной и лживой империалистической пропаганде…
— Откуда вы узнали?
Они поняли.
— Мне сон приснился, — выдавила Дядя.
В какой-то момент я готов был поверить. А что? Я гуляю под проклятьем, кому-то снятся вещие сны: у жизни есть варианты. А скорее всего, они завели себе человечка в Исполкоме.
— Если убьешь Канцлера, я и для тебя отработаю, — пообещал я Дяде. — Расценки известны?
— Ты на что нас подбиваешь, двурушник? — брезгливо поинтересовался Недаш. — На Охте целая армия под ружьем.
— Ну, — протянул Злобай, — если с умом… И сквозь армию пройти можно.
— Подожди, товарищ. Анархисты отвергают вендетту.
— С каких это пор мы отвергаем вендетту? — спросил Поганкин изумлённо.
— С тех, когда стали беречь каждую пару рук, способных послужить нашим высшим целям.
— На хуя мне высшие цели, если я не могу отомстить за смерть товарища?
— Кропоткин умер для того, чтобы жило его дело!
— Да он вообще не собирался умирать.
— Как это произошло? — спрашиваю я. И напрасно: мне ответили новыми колотушками.
— У вас совсем головы не работают? — простонал я в интерлюдии. — Зачем сапогами? А если я сейчас подохну?
— С чего тебе подыхать? — удивился Злобай. — Подумаешь, попинали. Разговариваешь связно, глаза глядят, печень цела — а если фрагментарно не очень цела, так не надо было дергаться.
— Откуда тебе знать, что у меня цело, а что не цело?
— А откуда знаешь ты, что я знаю и чего не знаю?
— Вы, оба, — говорит Поганкин, — довольно демагогии. Нужно продумать техническую сторону вопроса.
— Чего тут продумывать? — Злобай проверяет, не испачкал ли сапоги кровью; я осторожно нащупываю — где же они? — ребра. — Выманим гада из Исполкома, а там…
— Может, лучше самим в Исполком пробраться? — предлагает Дядя.
— А уходить как будем?
— Я запрещаю вам, — неожиданно сказал Недаш. — Запрещаю даже думать об этой безответственной и политически вредной… эскападе.
Диковинное слово, произнесенное внушительным тихим голосом, на какое-то время всех лишило дара речи — словно пощёчина. Поганкин первым очнулся и потер щёку.
— Ты. Нам. Запрещаешь. — Он зевнул. — Слышал, Злобай? Интересно, как это «запрещаю» выглядит? На что оно похоже? Это зверёк, Злобай, или, может, птичка?
— Рыбка!
Недаш побледнел, и его тонкие губы, сжавшись сильнее, почти пропали на лице.
— Я председатель сводного…
— Мы никого ни с кем не сводили, — перебил Поганкин. — Или как это правильно называется, подскажи, Злобай — не сводничали? Нам это ни к чему. Похуй, если сказать одним культурным словом. Или это два слова? Злобай, ты в школе хорошо учился, не подскажешь?
— Меня выбрали большинством голосов, — напомнил Недаш.
— Так мы не против. Нравится тебе быть председателем — будь им. Только в чужие дела не лезь со своим колокольчиком.
При слове «чужие» Недаш улыбнулся.
— Надеюсь, — вкрадчиво сказал он, — мы не станем обсуждать внутренние разногласия при этом… выродке?
Все посмотрели на меня. Злобай кивнул.
— Разноглазый, говори сейчас, с кем ты. С нами?
— Ты знаешь, что нет.
— С Канцлером?
— Нет.
— Бесполезная трата времени, — Недаш посмотрел на Поганкина сочувственно и с превосходством. — Он с тем, кто больше заплатит. Шпион. Стукач. Доносчик. Завтра же власти будут осведомлены об этом разговоре. О твоих планах, Поганкин. И о том, товарищи, что в рядах анархистов нет необходимого единства.
— Он нас не выдаст, — сказал Поганкин угрюмо. — Это не его… бизнес.
— Всё так, — пробормотал я, стараясь не стонать. — Поганкин! Зачем били-то? Это бессмысленно.
— Понимаю, что бессмысленно. Но сердцу не прикажешь.
Сутки я отлёживался, а потом пошёл к Миксеру просить об охране и к Алексу — за Сологубом. Миксер выделил мне двух инвалидов, Алекс выделил потрёпанную книжку, и экипированный таким образом, я взглянул в будущее как мог бесстрашно.
Сидя то в одной, то в другой забегаловке, я переворачивал страницы, и свет скудно падал от мутнеющих, залитых дождём окон, и возлагать надежды на Искусство было так же перспективно, как на Бубона и Родненького, маявшихся у дверей.
Два неисцелимых идиота — полушкольник и полупенсионер — и стихи, которыми только порчу наводить. Как все эти «стылый», «постылый» и «безнадежный» служили службу мировой гармонии? Но я послушно читал и был вознаграждён, дочитавшись наконец до состояния, когда мне всё опостылело не понарошку. Застав меня как-то кротко пялящимся в вечность, Муха сказал:
— Я простой человек. А простые люди, когда чего-то не понимают, начинают дёргаться.
— А?
— Я говорю, грузишь ты себя не по понятиям.
— А…
— Что «ааа»? Не у врача, блядь.
Я потер пальцем нос, переплёт, край стола, сморгнул — ни Муха не исчез, ни мир не стал краше.
— Излагай, что стряслось.
— Разноглазый, в том и тема, что когда стрясётся, не успеем перетереть.
— Ну?
— События выходят из-под контроля, — пафосно сказал мой друг.
— Не понимаю, о чем ты. Разве мы их когда-нибудь контролировали?