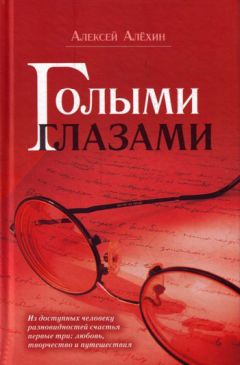Но зато я увидел в музее то, чего уже не рассчитывал отыскать.
Обычные на первый взгляд поднебесные фигурки и барельефы точно проснулись. На лицах появилось выражение. Животные обрели подвижность. Разносчик овощей качнул корзинами на коромысле. Мельник крутанул мельницу. Девушка захотела прикосновения руки…
Я искал объяснений чуду и получил его после долгих выпытываний. Это не поднебесное искусство. Оно относится к культуре Западной Ся – до того, как та была проглочена и омертвлена Срединной империей.
И я понял, что не переживу превращения в китайца.
Поднебесная, 444-й деньдлиной восемнадцать тысяч ли, писанное на тюке с товаром. С точкой на Ярославском вокзале
Отъезд русского поезда – еженедельное событие, потрясающее Пекинский вокзал.
Это и правда поезд из поездов.
За час до отхода стекаются к оцеплению китайцы с кипами бракованных кожаных курток, футболок в английских надписях с орфографическими ошибками, резиновых кроссовок. Поляки с грузовиками тряпья. Турки с джинсами, румыны с шелком, русские мешочники, прозванные «утюгами», монголы, какие-то русскоговорящие негры…
Места первого класса раскуплены дипломатами, скопившими за годы поднебесного сидения такую уйму ваз, шуб, холодильников, телевизоров, сервизов и двуспальных кроватей, что спать дорогой им предстоит в специальных разборных гробиках, что мастерит из фанеры посольский умелец, обратив купе в доверху забитую добром этажерку.
Все тронулись в путь.
Меня подмывает сравнить отправление этого эшелона с выступлением торгового каравана. Но то, вне сомнения, было величественным зрелищем, исторгавшим слезы у остающихся близких.
Тут тоже плачут.
По законам не объявленной вслух железнодорожной войны между двумя столицами, русской и поднебесной, ворота на перрон раздвигают в последний момент, и толпы отягощенных поклажей путешественников начинают брать вагоны штурмом. Сумки, ящики, тюки заталкивают в двери и окна, прямо по головам провожающих. И все равно, когда состав трогается, платформа усеяна забытыми навсегда коробками.
Страсти же переместились внутрь начавшего пританцовывать на стыках вагона. Вещей куда больше, чем мыслимо распихать. А «утюги» оказались и вовсе без мест. В Москве они брали билеты в два конца, но не смогли проштемпелевать их в Пекине, где промысел этот в лапах уйгурской мафии. Настал звездный час проводников.
Они обходят свои владения, как Игорь с дружиной обходил древлян, наметанным глазом оценивая пирамиды чемоданов и свертков, заламывая цены, торгуясь и твердя вечную молитву мытарей: доллары, доллары, доллары! – а после хвастая друг перед дружкой собранной данью.
Пассажиры разбираются меж собой. Скудную кубатуру делят, как буханку хлеба в голодный год.
Молодому турку, посягнувшему на багажную полку, китайцы расквасили круглое лицо. Он сбегал в соседний вагон за земляками. Но, учитывая численное и территориальное превосходство противника, от контрдействий решили воздержаться. И только щуплый вежливый турецкий старичок, председательствовавший на военном совете, всю ночь простоял перед раскрытым окном, прикуривая сигарету от сигареты и сожалея, видимо, об оставленных дома ятаганах.
В конце концов все как-то утряслись. Из любопытства я заглянул в соседнее купе. Оно имело вид мягкой пещеры, сложенной из тучных, как боровы, сумок. Окно заложили, сверху нависал тяжелый свод, пол приподнялся до уровня колен. На брошенном поверх тюков одеяле молодая китаянка в спущенных чулках уже хлебала из кружки заваренную кипятком лапшу. Недоставало только костра.
Безбилетные «утюги» устроились на своих мешках в коридорах и тамбурах.
А мне повезло перебраться в купе к таким же, как я, безлошадным соотечественникам, с единственным улыбчивым китайцем. Он вез всего одиннадцать чемоданов, взгромоздил их на верхнюю полку в несколько слоев и улегся поверх под самым потолком, для верности пристегнув себя ремнем к какой-то никелированной загогулине.
Еще много-много часов Поднебесная длилась за окнами. Постепенно она скудела и теряла краски. Города все более походили на деревни. Проплыли изрытые дырами пещер глиняные холмы. И уже слепящее глаза желтое монгольское солнце побежало над низкими полями.
Мой сокровенный друг, возвращение в страну плохо укладывается в прозу.
Мне захотелось расцеловать здоровенного прыщавого пограничника, первым прогромыхавшего в своих сапожищах по коридору.
Уползающий назад столб с четырьмя апокалиптическими шестерками оставшихся до дому километров загипнотизировал меня: 6666.
Унылый, как городская свалка, Забайкальск показался полон сокровенного родного духа.
Пока составу переставляли колеса, я с умилением наблюдал за устроенным на привокзальном пустыре торжищем, где маньчжурские китайцы приценивались к голубым русским грузовикам, заглядывая им под капот на манер ярмарочных барышников.
А после, когда поезд часто застучал по широким рельсам, глаз не мог оторвать от черных деревень, лошадей на водопое, каких-то речек с заросшими, точно кабаньи хребты, сухой осокой узкими островками, от встающей из-за сопок оранжевой, полосатой, как Юпитер, луны…
В седьмом часу утра меня разбудили визгливые монотонные выкрики: «Четыле-ноля-ноля! Четыле-ноля-ноля!..» Поезд стоял. И до меня дошел смысл любознательности соседа-китайца, накануне все выпытывавшего и заносившего в блокнотик произношение русских цифр.
Не помню, рассказывал ли тебе. На парижском вокзале Сен-Лазар есть дивный обелиск: отлитый из чугуна штабель чемоданов, баулов, сумок в натуральную величину. Я бы установил по такому же на концах Транссибирского пути. И нарек – памятник Неизвестному мешочнику. Вернувшиеся из путешествий могли бы возлагать цветы.
Ни в чем так не выпирает человеческая суть, как в этой народной торговле.
Студент, заслуженный тренер по дзюдо с любимым учеником, незадавшийся инженеришка, бывший экскурсовод, расторопный работяга. Семейные и холостые, нахрапистые и рохли, бывалые и зеленые – все они снялись с мест.
Переплачивают за билеты, трясутся в бесконечных поездах, питаются консервированной дрянью, ночуют в омерзительных гостиницах, спят на мешках, умасливают проводников и таможенников – и возят, возят туда-сюда барахло.
Их гонит та примитивная сила, на которой всякий раз спотыкаются социальные утопии и которая заодно не дает человечеству вымереть. Желание получше накормить себя и семью.
«Четыле-ноля-ноля! Адин-два-ноля-ноля! Ру-ба-сы-ка! Сы-та-ны!»
Китайцы стараются побольше распродать до Москвы, где их уже поджидают с поборами. Торгуют на каждой остановке в двери, в окна, ночью и днем.
Аборигены толпами сходятся к нашей лавке на чугунных колесах, тянут руки, щупают товар, возвращают, передают деньги. Один вернул вместо новой куртки драную. Прошлой ночью китаец в соседнем купе долго бил вывшую на весь вагон жену, обсчитавшуюся на пару тысяч. Но торговля идет. Одни подают товар, другие кричат и призывно размахивают им, перегнувшись в окна. Игрушечный наманикюренный китаец управляет целой бригадой, прохаживаясь меж тюков.
На больших станциях появляются толстые ревизорши и бесцеремонно роются в тряпках, отбирая получше. Заскакивают милиционеры. Один, при дубинке и кобуре, все торговался да и выпрыгнул, не расплатившись, на ходу с кожаными куртками под мышкой.
«Утюги» в проходе обсуждают тамошние и здешние цены, пьют чай, травят анекдоты.
Тощий молодой мешочник из Запорожья, правнук писаря с репинского «Письма турецкому султану», хлопнулся в обморок. Ему разжали зубы, влили воды, оживили и посадили подышать к выдавленному еще в Иркутске окну.
Китайцы считают убытки и деньги.
Каждый день я засыпаю и просыпаюсь под шуршание купюр.
Чемоданы соседа с верхней полки заметно похудели. Нынче он долго перекладывал их с места на место, шелестел толстой пачкой сторублевок, что-то мараковал на калькуляторе и, сведя дебет с кредитом, аж запел от удовлетворения:
– Ха-ла-со!
О долларовый, рублевый, юаневый мешочный мир! О Великий шелковый поезд! О набитый сокровищами караван, мчащий среди сибирских пространств!
На станции Зима местные подростки приготовили ему встречу. Едва состав причалил, вооруженная чугунными тормозными колодками орда человек в сто бросилась выбивать вагонные стекла и вытаскивать в проемы добычу.
Китайцы отбивались отчаянно. В ход пошли бутылки, банки, огнетушители. Юные мародеры с изрезанными руками обливались кровью, но упрямо продолжали тянуть тюки.
Последовала летучая вылазка осажденных.
Но рассвирепевшие мужики тщетно пытались изловить вертких разбойников.
Единственный щуплый милиционер казахского вида бегал по платформе, паля в воздух из пистолетика. Волна подростков откатывалась и накатывала вновь. Звенело, разлетаясь, стекло, визжали женщины.