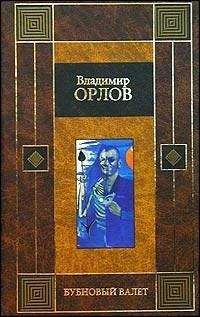Родителям о Юлии я не объявлял. Из-за того, что у нас с ней отношения были как бы испытательные. И из суеверия. И просто не решался открыть им, что живу я теперь отдельно от них. На выселках. В сад-огород их я выбирался лишь на один день. Привозил продукты, коли надо, копал что-либо или чинил, а чаще всего – не ночуя поспешал в Москву. О причинах моих спешек мать, хотя бы мать, возможно, догадывалась. Но и ею был освоен отцовский принцип – “Нашел – молчи, потерял – молчи”. К тому же старики наверняка полагались на мое благоразумие.
Нельзя сказать, что я был особенно говорлив и с Юлией. Но нам и не требовались разговоры. Конечно, мы нечто обсуждали тогда – какие-нибудь бытовые мелочи (взять “жигулевское” или “рижское”?), чьи-то житейские ситуации, дела профессиональные. Но о многом, не сговариваясь, умалчивали. То есть тогда некоторые люди вообще для нас не проживали на свете. Или хотя бы – вблизи нас. А самое существенное, что происходило единственно с нами и внутри нас, никакими словами выразить или передать было нельзя. Слова или даже звуки могли бы лишь все упростить. Или испортить. А потому они и не возникали. У нас с Юлией были одни ощущения и мысли. И если они рождались не одновременно, то перетекали от меня к ней (и наоборот) чаще всего без звуков, а сигналами глаз, прикосновением тел, а то и просто переносясь из натуры в натуру способами для нас русалочьими, стены комнат не были для них помехой. Да что стены комнат!
Тогда меня, юнца, волновали, и не только волновали, но и умиляли все подробности, все мелочи, все ресничные взмахи нашего с Юлией общего (сейчас бы сказали – андрогинного) существования: одно тело, одна кожа, одни глаза, одни ноздри… одно… все одно, одно. Время, как и положено, не наблюдалось. Часы растягивались тысячами мгновений, а остановить эти мгновения (“О, если б навеки так было!”) мы не могли, да и не хотели… Я чувствую, что и по прошествии тридцати лет я допускаю теперь красивости и умиления, и потому полагаю, что рассказывать о подробностях и мгновениях тех дней нет нужды. Тем более что у каждого из моих предполагаемых читателей свой житейский опыт, и описания эротических утех (здесь – наших с Юлей) вряд ли кого-либо из них смогут растрогать. Скажу только, что, как и при первой близости, мы с Юлией (любовниками) совпали, не уставали друг от друга. Совпали как любовники романтические (Дафнис с Хлоей, Тристан и Изольда), потом как животные, самец с самкой, чье разъединение могло привести к погибели каждого в отдельности. Мы вдвоем ничего не стеснялись. Ничего вдвоем не стыдились. Прежде я упомянул мимоходом, что Юлия оказалась в любви более умелой или скорее – более знающей, нежели я, тоже вроде бы не семиклассник. Теперь ее умения и знания опытно-изощренной женщины подтвердились. Однажды, после долгих удовольствий, все ж утомивших нас, мы тихо сидели на кухне. Юлия закурила. Я почувствовал, что она желает, чтобы я поинтересовался, откуда у нее эти знания и умения. Хотя бы шутейно поинтересовался, тогда бы и у нее была возможность ответить как бы легкомысленно и тоже с шуточками, снимающими всяческие серьезности. Я ни о чем не спросил. Юлия была из иного племени. Я-то, старый хрен, некогда уважал кодексы Тимура и его команды (теперь-то мне объяснили, что Скачущий Впереди Всех позаимствовал свой сюжет из бойскаутской повести, Англия, Первая мировая, сам был бойскаутом, впрочем, при чем тут скауты и Тимуры?), Юлькино же племя иначе, чем мы, осознавало или осуществляло приобретения своих свобод, сущностных и телесных. Они охотно и не стесняя себя ограничениями испытывали новости взрослой жизни, иногда и с перенасыщениями – наперекор чему-то (благопристойностям в семье Корабельниковых, например) или в подражаниях кому-то. Знать о том, что и как пробовала Юлия (и уж тем более – с кем), как ей дались ее приобретения, не было у меня нужды. У ее поколения были свой устав и свои привычки, и я их был обязан принять как данность. В боковых моих мыслях в те дни прошмыгивали порой соображения (ненадолго, впрочем, меня озадачивавшие) – а вдруг Юлии станет скучно со мной одним (пусть и на время), она ведь совсем юная еще и шальная? Как поведу я тогда себя? А как кавалер Де Грие – с тоской, с болью на доли секунды – осознавал я. Именно как кавалер Де Грие. Мой университетский приятель, не раз уже упомянутый мной, Валя Городничий был убежден в психической ущербности кавалера де Грие. Что он за мужик был (да еще и офицер!), коли мог все прощать своей распрекрасной сволочи Манон, таскаться за ней и даже угодить в Америку! С психиатрическим диагнозом Городничего я согласен не был, страсть есть страсть, и позже кавалер преобразился в благорассуждающего аббата (“И в писателя!” – радостно восклицал Городничий, словно бы доказывая этим обстоятельством, что Де Грие так и остался психически ущербным человеком), но кроме страсти были свойственны кавалеру потребности в жалости или хотя бы в состраданиях, слабость натуры и эгоизм. Сам я, конечно, на месте кавалера Де Грие представить себя не мог, и еще месяц назад, после больницы Юлии и общений с Валерией Борисовной, ни о каких кавалерах Де Грие и речи не могло идти. Теперь же, пожалуйста, коли потребуется, стану этим самым ущербным кавалером. Выдержу! Лишь бы Юлии было хорошо. Выдержу! Нужна моя жизнь ради того, чтобы с Юлией ничего дурного, угрожающего ее жизни, не случилось, отдам свою жизнь. Или душу. Без колебаний. Потому как без Юлии существовать я уже не смогу. Впрочем, что за бред, с чего бы тут Маноны Леско и смертельные угрозы! Я притаптывал эти боковые, короткие мысли. Но признаюсь, имелась для меня в них и некая сладость, у нас с Юлией все хорошо, и всегда будет хорошо, но без страхов любовь невозможна.
Должен заметить, что при всех изощренностях и умениях моей подруги и я очень скоро перестал ей в чем-либо уступать. Мы были молодые, гибкие, сильные (мне-то приходилось нередко утихомиривать собственную силу, чтобы не утомить Юлию и не повредить ей), и мы сами многое придумывали и изобретали в любви. И во всех наших изобретениях, снятиях запретов и играх не было для нас ничего дурного или постыдного, все признавалось нами нравственно разрешенным и чуть ли не эстетически возвышенным. И еще одна подробность. Юлькина поросль материлась с удовольствием (особенно девицы, парни их поддерживали, но как бы и смущаясь, и это был не настоящий мат, не мужской, игровой). Но у девиц мат считался вроде бы шиком, самокруткой из запретов или платьем на голое тело. Юлькин мат порой как бы соответствовал ее образу лахудры и шалавы из подворотни. В любимой девушке все вроде бы должно было меня умилять, но крепкие выявления Юлией чувств, иногда громкие и даже радостные (“Эх, …!”), меня, помнится, как ни странно, огорчали. Обязательности в них не было никакой. А не всякое озорство приятно. Сам я рос во дворе (и переулке) с блатными и слышал самые разнообразные, достижимые и недостижимые мужские выражения. Но мать с отцом внушили мне, что сквернословить нехорошо (“Грех богохульничать-то!” – говорила мать, впрочем, разъяснить мне, в чем заключается хула Богу, она не могла). Конечно, в слововыражениях я не был чистюлей. На манер многих моих сверстников в разговорах я употреблял (сами являлись) лихие слова без всякой смысловой нужды и нагрузки, а просто как подпорки в ораторских затруднениях, вместо “так сказать”, “понимаешь” или “японский городовой”. Ну и естественно, на футбольном поле я мог исполнить резко-бранную языковую фигуру, должную оценить бездарную ситуацию и бездарных исполнителей (случались рядом свои Филимоновы). В нашей временной квартире на Ярославском шоссе ни одного бранного слова не прозвучало. Не вспоминались они даже в своих первозначениях, скажем, как вскрик, выражающий высшую степень восторга. Они вблизи наших с Юлией игр, удовольствий и радостей, а уж тем более в соединении с ними были бы словами скверными. Нечистыми словами. При этом мы не сюсюкали, не лизали друг друга ласкательными фразами, не коверкали слова, как бы превращая их в особенно нежные. Так делали, например, наши соседи по квартире в Солодовниковом переулке Конопацкие. Я уже не раз упоминал соседей Чашкиных, но еще одну комнату напротив нашей занимали трое Конопацких. Младший, Петя Конопацкий, служил срочную в армии, взрослые же Конопацкие, как и мои старики, жили на даче, с дачи ездили на работы, и пока у меня не было поводов вспомнить о Конопацких. Так вот эти взрослые Конопацкие скандалили у себя в комнате, на кухне же при коммунальных людях разыгрывали навеки возлюбленных. В обращениях друг к другу “ради ласковости” букву “р” они меняли на “л” (“ладостный ты мой!”) и вроде бы нежничали трогательными детскими голосами, а все выходило смешно и пошло… Впрочем, что я расписался? Какое дело посторонним людям до лебезящих Конопацких? Какое дело им до нас с Юлией? Что мы им? И зачем? Все, что было с нами, было – с нами! И ни с кем другим…
***
В первые недели в нашем шалаше гости не появлялись. Даже Валерия Борисовна держалась от нас на расстоянии телефонного сигнала. О настроениях И. Г. Корабельникова, будущего тестя (коли соизволит им стать), мне не сообщалось. А я о них и не спрашивал. Юлия о чем-то болтала с Валерией Борисовной, я в ее реплики не вслушивался. Скорее всего, Валерия Борисовна давала советы хозяйственные (из ответных же реплик Юльки она могла вывести, как у нас обстоят дела сущностные). Валерия Борисовна прекрасно знала, какая хозяйка получится из ее младшей дочери. То есть никакая. В крайнем случае – бестолковая и бесполезная. А ко всему прочему такого здорового мужика, как я, чтобы не сбежал, надо было сытно и ресторанно кормить. А потому Валерия Борисовна пыталась одарить нас приходящей домработницей. В семье Корабельниковых после войны держали прислуг. Прописывать их (по очереди) приходилось как дальних родственниц из талдомской деревни. По неписаным законам ответственным лицам государственных рангов прислуги полагались, и в высотном здании, в квартирах будущих уважаемых жильцов, были запроектированы комнаты для домработниц. Теперь в той комнате – часть библиотеки академика Корабельникова. А домработница у них – приходящая, с высшим образованием, между прочим, специалист порошковой металлургии. Замечательно готовит пельмени. Иван Григорьевич сам в выходные не прочь был мастерить пельмени, любитель и знаток, а вот против пельменей приходящей не протестовал. На предложение матери Юлия ответила шумным отказом. Она высокомерно заявила, что никаких домработниц не допустит, она здесь хозяйка. И она сама будет содержать дом в чистоте и сытости, сама станет стирать, гладить, мыть полы и оконные стекла, пылесосить, кормить и ублажать мужа. Мы с Валерией Борисовной переглянулись и оставили последние слова Юлии без обсуждений. Да, добавила Юлия, она сама заинтересована в том, чтобы муж был накормлен, урчал за столом от вкуснятины и чтобы кровь в нем играла. Валерия Борисовна как реалист-практик, то есть человек, рассудительно относящийся к невзгодам бытия, хмыкнула, рассмеялась и поощрила дочь: “Давай, Юленька, давай! Давненько ты не брала в руки шашки, а может быть, и вообще никогда не брала, но давай! А ты, Василий, когда у тебя наступят голодные дни, столоваться приходи ко мне, проверишь, какая у тебя растет теща!”