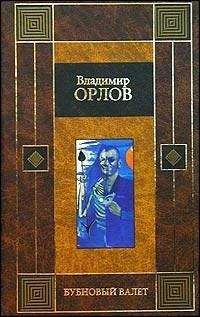– Как-нибудь и поговорим, – согласился я.
***
Полпервого ночи я вернулся домой с работы. И сразу же из своей комнаты выдвинул голову Чашкин. Он явно не спал, был чем-то возбужден или озабочен, а мое явление его несомненно удивило. Может быть, и не обрадовало.
– А ты-то откуда? – зашептал он. – Ты-то… Ты ведь…
– А что я? – теперь уже как бы удивился я. – Отработал смену и баиньки пора…
– Что ты нынче рано-то? – спросил Чашкин спокойнее.
– Как это пел дядя Сеня… “И в Македонии, и в Патагонии ловится на червя лишь рыба нототения…”
– Это ты к чему? – насторожился Чашкин.
– Да так… – сказал я и сразу же понял, что не желаю раздражать соседа Чашкина, и стал как бы оправдываться перед ним:
– Номер подписали в двенадцать, вот и развезли раньше обычного.
– А будильник? – поинтересовался Чашкин.
– Я же тебе говорил, он у меня одолжил на день, – сказал я. – Сегодня вернул.
– Вот до чего учености доводят, – поскреб башку Чашкин.
Из комнаты его окликнула женщина.
– А-а! Иди ты! – Чашкин будто пнул кого-то ногой. И приставил палец к губам. – Ты моей Галине ни-ни!
– О чем?
– О чем! О сестрице! У меня сестрица… Тоже! – Чашкин хохотнул и прикрыл дверь.
Теперь уж я и впрямь был готов двинуть его по роже, а себя пристыдить за желание – минутами раньше – не раздражать Чашкина. Но вскоре я остыл и посчитал: оно и к лучшему, что мордобой не состоялся. Да и какой причиной Чашкин стал бы объяснять мое внезапное нападение? Не шуткой же по поводу сестрицы. А как-либо проявлять знания, приобретенные в переулке за Башиловкой, я не мог.
Знания же мне были отпущены совершенно намеренно. Эдита Пьеха пела: “В нашем доме поселился замечательный сосед”. Именно сосед и играл на тромбоне и трубе. Чашкина я знал с детства, до того как вселиться в нашу квартиру, он проживал во дворе, в двухэтажном флигеле (там осталась его мать, дворничиха). Кроме всего прочего, Чашкин был и радиолюбителем. Ковырялся в телевизорах (подрабатывал их ремонтами), мастерил магнитофоны. При рассеянности участников субботнего застолья он, естественно, мог записать шумы и разговоры. То, что он способен стучать, я всегда имел в виду. Но нынешняя резвость Чашкина была поразительной. Скорее всего он испугался. Подумал, что сам стал соучастником моих скоморошеств и восклицаний Ахметьева, требующих немедленного произнесения “Слово и дело!”. А может, он рассчитывал на чрезвычайную оценку своих стараний. Все прежние-то поводы для донесений были у него наверняка блошиные.
Его сигнал требовал применения мер. Серьезным же людям, вынужденным реагировать, он доставил лишние и пустые хлопоты. У них по поводу Михаила Андреевича и Ахметьева были свои мнения. Раздражение же, вызванное стараниями дурака и лишними хлопотами, и выразилось упоминанием песни Эдиты Пьехи.
Что же касается мнения содержателей квартиры относительно уважаемого Михаила Андреевича и полезности трудов и личности Ахметьева, то они меня очень удивили и озадачили. И не скрою, испугали. И добавлю: напугали не своей сутью, а тем, что я был признан как бы разделяющим взгляды моих собеседников и даже понимающим их с полуслова. “Нет, я ничего не понял из того, что они говорили друг другу, – уверял я себя. – Это и не дано мне понять, да и не все я расслышал…” То есть теперь, сам с собой наедине, даже и в мыслях я словно бы старался отмежеваться от Старшего с Мрачным. Хотя и не мог вытравить из памяти их ехидства по поводу полезности стране текстов, сочиняемых Глебом Аскольдовичем, и ехидства непочтительные в адрес Михаила Андреевича, и уж конечно слова о необходимости абсурда для обретения здравого смысла.
"Кто же они?” – спрашивал я себя, хотя прекрасно понимал, что Чашкин с резвостью угождал, естественно, не английским шпионам. “Циники! Вот кто они! Циники! – наконец пришло мне в голову. – Служивые люди, порядочные, но циники. Знают много, насмотрелись всего, вот и стали циниками. “Жрецы не верят в богов, каких создают сами”…”
Мысль о циниках вроде бы успокоила меня.
"А ведь они в отличие от Сергея Александровича, – подумал я, – не упомянули ни солонку, ни Цыганкову…”
Нет, требовалось забыть о разговоре, о квартире и “забашиловских” собеседниках. Забыть и навсегда.
Если мне, конечно, о них не напомнят.
И если меня не вовлекли еще в какую-нибудь чужую игру.
Действительно ли “забашиловских” заботили судьба и здоровье составителя текстов, надо думать, служащих сгущению абсурда (по предложенной мне схеме)? Ключевой вопрос был о будильнике, о сороке-воровке (“сорока… сорока…”, и пальцы нервно барабанили) и клептомании… Видимо, будильник был не первый… Башкатов и Бодолин говорили об Ахметьеве определенно: “Монархист, а служит большевикам” (оценивая, правда, личность Ахметьева по-разному, Башкатов – с удивлением, Бодолин и Миханчишин, надо полагать, – с презрением и ненавистью). Мне существование Ахметьева представлялось странным, но возможно, сам Глеб Аскольдович видел именно в таком существовании и смысл, и цель, а может, и оправдание своей жизни. Но не привело ли это существование к болезни? Или оно и было вызвано болезнью? Не мне судить. “Забашиловских” же болезнь Ахметьева явно печалила. Впрочем, и хворый человек для сотворения абсурда мог оказаться полезным. Опять же не мне судить. К тому же и сама схема “абсурд – здравый смысл” могла быть лишь нафантазирована мной. На равных в квартире за Башиловкой меня не держали, рукопожатий не удостоили и даже давали понять, что я в чем-то провинившийся (ироническое – “артист”!) Кое-что они мне намеренно приоткрыли. Но о скольком не посчитали поставить в известность? И не исключено, что они сами были артистами, дурачились и своими “приоткрытиями” вводили меня в заблуждение.
Зачем? Я и предположения об этом не мог выстроить.
Словом, разум мой отказывался анализировать услышанное мной и пережитое и уж тем более устанавливать выводы. В систему моих представлений о ходе жизни разговор на холостяцкой квартире во всяком случае не вмещался. Инстинкт же самосохранения подсказывал, что жить под гнетом суждений об этом было бы бессмысленно. Впрочем, на следующий день произошло событие, очень удивившее и меня, и соседа Чашкина, никак не связанное с беседой за Башиловкой, но отменившее мысли о ней.
Во вторник я ждал (и боялся) разговора с Глебом Аскольдовичем Ахметьевым. Я видел его в коридоре и заключил, что недомогания покинули его, костюм его был безупречен, и следовало предположить, что Глеб Аскольдович готов к исполнению сложнейших смысловых и стилистических упражнений. Ахметьев лишь холодно кивнул мне, будто вспоминая на ходу, что за фрукт ему повстречался. Сам я не посчитал бы нужным напомнить о будильнике, а тут я и слова не успел ему произнести. “Оно и к лучшему”, – подумал я. И это он высказывал пожелание поговорить со мной.
Ночное возвращение домой опять началось собеседованием с Чашкиным. Чашкин был одетый, оживленный и отчасти загадочный.
– Василий! – обрадовался Чашкин. – А у нас опять сестрица!
– Твоя?
– Нет. Твоя! – захохотал Чашкин. – Сидит на кухне и ждет тебя.
На кухне, оседлав чемодан, поставленный на попа, меня ожидала Юлия Ивановна Цыганкова.
– Василий, я вернулась, – сказала Юлия.
Выяснять что-либо на кухне было бы дурно, и все же – именно для восторженно глазевшего на нас Чашкина – я выговорил:
– Тебя выгнали, что ли?
– А-а! – махнула рукой Юлия. – Тренеры там плохие и бассейн плохой…
Я ключом открыл дверь в свою комнату и затолкал туда двоюродную сестрицу с чемоданом.
***
Бросив чемодан, Юлия обхватила меня и принялась целовать. Все мои установления рухнули, я прижал ее к себе.
И последовали медовые недели нашей с Юлией жизни. Ночь мы провели в Солодовниковом переулке, а утром переселились из моего родительского дома на квартиру. Временно, понятно… Позже я узнал, что Валерия Борисовна сгоряча предложила Юлии занять пустующее жилье старшей сестры, но сразу поняла, что ее предложение неразумное. В долговременных заграничных командировках пребывали две приятельницы Валерии Борисовны, квартира одной из них за Крестовским мостом на проспекте Мира (для меня – на Ярославском шоссе) нас и приютила. Дом строили при Сталине, заселяли – при Хрущеве, он был имперской (Берлин, Гитлер, Шпеер) архитектуры, в просторах и роскоши квартиры я ощущал себя чужим, жильцом “на срок”. Впрочем, долгожительных упований мы с Юлией себе не позволяли. Положили: поживем несколько месяцев, коли не рассоримся, распишемся, вернутся хозяева квартиры, подыщем новую. А там посмотрим. Может, вступим в кооператив. Правда, как добудем деньги?.. Но как-нибудь добудем, постараемся, займем, заработаем… На квартиру, какую я еще недавно все же надеялся получить в газете, я теперь менее всего рассчитывал… То есть я не разрешал себе даже в мыслях на это рассчитывать. Заявления из жилищной комиссии я не забирал (меня бы и не поняли), но знал, что никаких просьб и действий от меня не последует. Если очередь ползет, то пусть и ползет, я же о своих претензиях напоминать не стану. Приходили мысли о том, что тем самым предам интересы стариков, ну не предам, а обрушу их надежды, им придется вековать с Чашкиными, но что было делать?